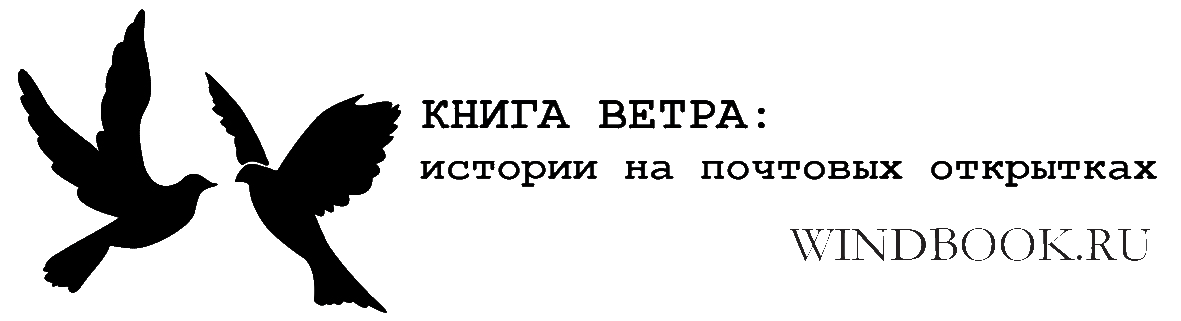When you look off
Tell me who you really love
Жизнь – как путешествие, в котором каждый ведёт путевой дневник…
И правда, стоило бы выписать на листке в столбик все города, где побывала и куда стремилась. С пометками, совпали ли представления в грёзах и наяву.
Видеть – значит ведать, а всё увиденное принадлежит тебе, остаётся с тобой навсегда. Прошлое оживает в новом шаге, вынуждая сравнивать дороги, тропинки, улицы, проспекты, шоссе… и даже шаги по ним. Хочется порой стереть все воспоминания, избавиться от себя, начать писать карту мира с белых пятен и свежим взглядом. Не получится: следы прошлого проступают на дне памяти, как мелкие камешки на дне реки сквозь прозрачную воду времени в ясную погоду.
Цель пути – гармония, а достичь её можно избавившись от желаний, стремлений, приняв свой путь – в никуда.
Стою в Пушкинском музее перед картиной «Мои города» Р.Б. Китая. Художник изобразил три временные проекции себя: юность, зрелость и старость. Карабкается из прошлого в будущее по лестнице в небо, а под лестницей плачут согбенные демоны – чувства, которые в себе подавляет ради самосовершенствования; желания, через которые перешагнул во имя светлых горизонтов обманчивого будущего. Невольно вспоминаю свой недавний запрет на музыку. Музыка – опасная машина времени, если страдаешь и не можешь забыть, живи в тишине до тех пор, пока не окрепнешь, чтобы выдержать нахлынувшие мелодии воспоминаний.
На выставку Лондонской школы отправилась за Фрэнсисом Бэконом. Скорченные фигуры – суть плоти, кровоточащая боль, одухотворённое мясо. Обнажённое тело – прекрасно, но сам процесс раздевания – аморален, безнравственен, как откровение без примеси лжи во спасение. Мы все несём в себе экзистенциальный ужас, изливая его на окружающих, перевоплощаясь в кровавые рты, в саму идею крика «Послушайте меня!»
И лишь молчание отливают в золоте… солнечного света.
Так всегда бывает: ищешь одно, а открываешь совсем другое. Обретаешь опровергая, завтра разрушает сегодня, чтобы вчера возрождалось до бесконечности. Внезапно картина Люсьена Фрейда «Два растения» распахнулась окном в стену. Жизнь во всей её мимолётности: слышишь, как цветы на картине трепещут на ветру, растут, увядают, клонятся к земле, чувствуешь запах опадающих листьев. Не сразу даже осознаёшь, что смотришь не в окно на сад, а на застывшие ещё в прошлом веке краски.
Или вот: «Мы с Мелони плаваем» Майкла Эндрюса, учит дочь плавать, а как будто летать – облака отражаются в воде, создают иллюзию полёта. Нам всем в детстве выдавали крылья. Куда мы их потом деваем? Учимся ходить по китайским лестницам? Что останется от меня, если убить все желания?
«Я даю тебе музыку, свет и немножко радости»[1].
Когда-то (давно, столько не живут!) мы слушали Chinawoman: «Lovers are strangers», а теперь я ловлю кофе в шипящей тишине кухни. Так хочется музыки! И диалога, который не смолкает в голове ни на минуту, даже если последним в наушниках звучало «The End of Journey» Montgolfier Brothers.
Желания – ключи к жизни. Те, что мы в себе подавляем. Те, что стремимся осуществить. И желания не отпустят нас на свободу до тех пор, пока могут (имеют возможность) сбыться, даже если сводятся к простому, но высказанному слову «прости»…
Философия дзен избавляет от боли и страха, каждый день проживая как отдельный, рождаясь заново, способна прекратить трагедию, но что придёт ей на смену? Пустота? Когда врачи разрешили мне строить планы не только на предстоящий месяц, но и на осень, Новый год, на пять лет вперёд… как жадно я принялась мечтать! И у мечты были синие крылья: окрашенные ностальгией, тенями пройденных дорог. Нельзя преодолеть себя. В повседневности человек жив ожиданием. И определяет его мечта – насколько она крылата, как хорошо научилась нырять, чтобы суметь оттолкнуться от дна – и взлететь. Да, жизнь подчас напоминает альпинизм: кто-то с Эвереста спускается уцелевшим победителем, а кто-то пострадавшим возвращается с пол-Эльбруса, но это не значит, что мудрец проведёт её в шезлонге. Просто смысл в том, чтобы постичь свои пределы, а цель – их раздвинуть, как стенки клетки. Отправиться в путешествие…
Путешествия напоминают поиск идеального места на земле. Всякий раз задаюсь вопросом: хотела бы я здесь жить, смогла бы прижиться и как? И всегда, как подводный камень, находится некое «но» и поиск продолжается. В переулках и лестницах хорватского Сплита, где каждый шаг вызывает дежа вю, поднимает со дна памяти образы других городов. Белые стены домов из известняка с изумрудными ставнями – Мальту, выщербленные ветрами лабиринты улочек – Венецию, пинии и альбатросы-птеродактили – Сорренто, кружение платановых аллей – Барселону, пальмы на фоне ярких арок и фронтонов и корабли-скамейки на набережной – Ситжес, мою родную Карелию – синевой воды и сосновыми тропинками парков… Но в ином – слишком ярком свете. Нигде раньше не видела таких цветов, Сезанн с Гогеном обзавидовались бы, хоть самой берись за кисть. Это как увидеть тебя на берегу несбывшегося моря моложе на двадцать лет. И перекрасить в южный (кареглазый) цвет. Я пытаюсь обрести тебя в них, но они – пусты изнутри. Не опустошены и не вычерпаны, каким был ты, когда встретились, а изначально гулко звучат. Глупо писать: не обижайся, душа никогда не совпадает с телом. В стародавние времена ты отвечал в «ждимейл», что не умеешь ни обижаться, ни совпадать. А сейчас – вообще недосягаем за чертой времени.
– Опять покинешь меня на восемь лет?
–Теперь навсегда, – хотелось ответить. – Через восемь лет нужно быть уже не любовниками, а шаманами.
Плюсы среднего возраста для писателя женского пола: перестают замечать, и можно беспрепятственно наблюдать за людьми, записывая их истории.
А пока не способна стать призраком и раствориться в толпе, подглядываю сквозь солнечные очки: как люди делают селфи на фоне соборов в неизведанных городах и на фоне признанных картин в музеях (которые тоже не умеют обижаться, вспомнить хоть философскую полуулыбку Моны Лизы над чередой голов в Лувре или нимбы мучеников), и перечитываю строки Толстого: «Каждый жаждет своей доли в вечности»[2]. Думаю о пресыщении и ненасытности. Вряд ли жители Сплита вечерами прогуливаются по набережным, а по воскресеньям отправляются в горы или на водопады. Красота приедается, и вскоре перестаёшь её замечать. Или – хуже, как Диана Арбус, воспылаешь страстью к непримиримому ugly, пока внешнее уродство не прорастёт внутри, не выжжет, как кислотное солнце пустыню (когда-то саванну), не вынудит положить всему этому (и себе) конец.
Не хочу жить с пресыщенными глазами, разучившись ждать и удивляться. Думаю, Бог тоже не хотел, отсюда и разнообразие форм нашего мира: вечно всего не хватало, идеала не существует и для Него. Всё едино, но всего не втиснуть в одно целое: вечно будут разбегаться пути, а мир – распадаться на частички душ путников. Тем более, если в распоряжении не Слово, а беспомощный поток слов.
Поэзия невыраженного и невыразимого. Интертекстуальность молитвы и лирика контекста. Переписать сорвавшийся с ветки лист так же невозможно, как понять фею бензобака. В сущности одно и то же. Осень. По одну сторону оконного стекла опадает листва с дерев, по другую – падает с кровати пациент. И ползёт на локтях, извиваясь как червь, к двери в коридор, потом – до туалета. Провинциальная больница. Ни кресел-каталок, ни рук сиделок на всех не хватает. Он – бывший байкер, она не справилась с чувством вины и утопилась в речке… На обложке литжурнала фея бензобака изображена вполоборота на фоне ржавой гаражной стены, надпись гласит: «Литература утратила современную Ахматову». Стихи очередной Ахматовой звучали бы бредом сумасшедшей, если бы не твоя больная страсть – книга «Чёрным по белому» Гальего Рубена. Она и стала для меня контекстом байкерской поэзии, отправной точкой расследования всей этой невыразимо печальной истории. Кровавых ртов и огненных языков.
Мне бы хотелось писать из света, из любви к миру, из удивления накануне чудес, из предчувствия любви. Но иногда пишешь из раны, и это тоже свойство писательства: целительное и исцеляющее.
Я верю, что любую однажды закрытую дверь можно открыть, а невыраженное – выразить. При желании. Пожертвовав временем, затратив множество сил. Израсходовав жизнь. Чтобы в конце пути прийти к невыразимому. К молчанию поздней осени или ранней весны, замершей на пороге лета. К непрерывной связи времён, где на кончике кисти свершаются чудеса, где в воде отражаются облака, а мы все – друг в друге.
Экспрессионизм – как единственно верный стиль письма. И бытия (или жизни, кому как удобнее выражаться).
А в Третьяковку привезли «Крик» Эдварда Мунка. До середины июня. Надо успеть…
[1] Чарльз Буковски
[2] Л.Н. Толстой «Об истине, жизни и поведении»
Лирика лет в стихах «Дети апреля» (аудио) >>>
Электронная книга на ЛитРес >>>
ЕЩЕ О ТВОРЧЕСТВЕ
Мои книги | Подписаться на новости | Архив писем | Поблагодарить