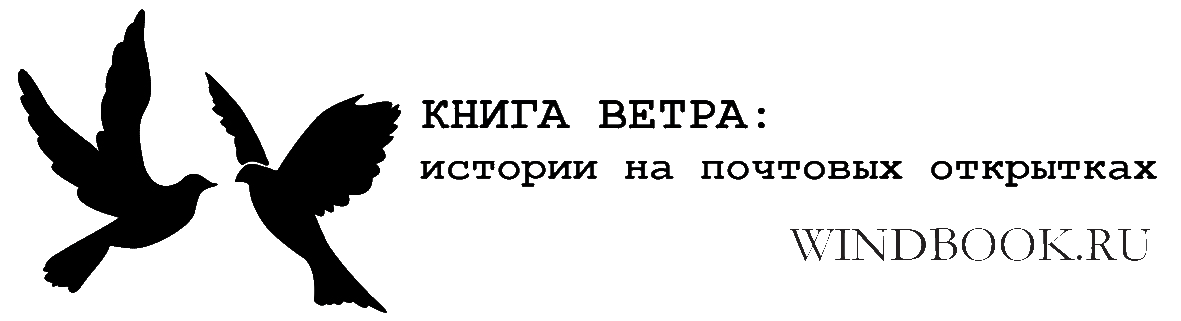– Сегодня перезимник, – сказала соседка и очень тепло улыбнулась.
Я выронила ключи. Не потому что напугала, возникнув рядом, а потому что мы дверные щели залили строительной пеной, чтобы запах мусоропровода не проникал в квартиру, и теперь нужно изо всех сил колотить в дверь коленом, чтобы вогнать обратно в проём.
– Пере-что?
– На Руси в этот день люди, выезжая из дому, слушали землю. Если шумела – значит зимняя дорога тает и стоит переждать до конца оттепели.
То-то я из дома выбраться не могу.
– Сегодня хороший день, – возразила соседка, – от слова перезимовали, выжили, дождались весны.
Не все… Кажется, ещё вчера мой пёс радостно поддерживал меня – с разбегу вбивая соседские двери, пока боролась с нашей. И к лифту шли, сопровождаемые эхом дверного грохота, чтобы уж точно весь подъезд был в курсе: мы идём гулять. А сегодня – тишина. Больше месяца уже тишина. Гулкая, вязкая, завораживающая.
Слушаю её каждое утро, как голос дома, когда пью кофе, курю и смотрю на снег из окна. Где-то нестройно, но и негромко играют на пианино, а на втором этаже, за стенкой, ходит по паркету на шпильках наша знакомая. Шаги ускоряются, будто нетерпеливо кого-то ждёт. Нас. Всякий раз, завидев под окнами, высовывалась спросить: «Там тепло? Шуба или пальто?». Кто ей теперь подскажет? Термометры и синоптики лгут.
За сегодняшними окнами – весеннее солнце. Значит, кто-то где-то в кого-то уже влюблён. И жизнь продолжается, и, наверное, хоть раз стоит выйти из дома по солнцу. А то келья с книгой в руках до сумерек и вечера на бульварах под ущербной луной. Я тоже не чувствую себя целой. Бесцельно брожу по ледяному крошеву остатков зимы, как по расколотому стеклу или выбитым зубам. «Зуб выпал во сне – к смерти». Невозможно объяснить, каково это бояться своих снов. Не получится описать ощущение пространства безвременья, продуваемого всеми ветрами, сквозящей пустоты.
«Неприкаянность цвета синего,
одиночество в лунной комнате.
Прозвучит в тишине голос ближнего,
зацеплюсь за него, как за облако», – мы сами себе пророчим. Строчки в голове возникают необъяснимо, лишь спустя много дней (или лет?), когда написанное начинает сбываться, поймёшь что к чему. Никогда прежде я не видела неба столь глубокого синего цвета, накрывающего куполом, просачивающегося в каждую клетку, нигде от него не спрячешься, нигде не находится места. Будто содрали защитную оболочку, ауру счастья, что берегла от всех бед, делала неуязвимой. Мне было плевать, кто что обо мне думает, кто из друзей ушёл навсегда, потому что на мне была твоя любовь невидимым слоем солнечного золота, не ржавеющего, не пропускающего непогоду и холод вглубь, в сердцевину моего существа. А сейчас – беззащитна.
Недавно напали в метро: какой-то сумасшедший упорно ставил ногу рядом с моей на ступеньку эскалатора, будто выталкивая, бежала вниз с мыслью, только бы не сорваться… В толпе никто бы не защитил, не поднял, растоптали бы в час пик. Вспомнились мысли из книги Оливии Лэнг «Одинокий город»: одиночество – это как медленно забывать язык, на котором общается мир вокруг, каждая попытка обречена на недопонимание, увеличивающее пропасть между тобой и людьми, и так – до окончательной немоты. Если мир нападает, значит, это с тобой что-то не так. Запах страха. Пишут: «жертвы сами провоцируют насилие», но ждут от мира доброты и прощения. Я бы попросила чуть больше чуткости: давайте беречь границы друг друга, необязательно давить того, кто рядом, можно просто отойти в сторону. И да, хотела, чтобы оставили в покое. Но покой мне представлялся тихой радостью без боли, нервов и страха, а не бесчувственным криосном. Уединением на швейцарских тропинках Аньес из романа «Бессмертие» Милана Кундеры. Всё спрашивала себя: зачем нужно было убивать героиню, когда она, наконец, достигла истинного счастья слияния с миром, избавившись от живых стен? Сейчас понимаю, что уединение в одиночестве невозможно. Наедине с собой можно выдержать, пока никого не терял.
Думала, ты – якорь, удерживающий у домашних берегов, а мне хотелось в дальние странствия. Теперь брожу по городу, замечая мельком, что все кафе, где засиживалась допоздна, изменили названия и интерьеры, газовые огни у входа горят маяками не для меня. И уезжать никуда не хочется, потому что по-настоящему можно куда-то уехать, если дома ждут, а если нет, то весь мир сжимается до размеров чулана, где прячут ненужные вещи.
«Ничего не нужно – последние слова матери», – рассказывала Яна. Мы уселись с ней покурить на скамейку близ Марфо-Мариинской церкви. Я так часто встречаю людей, которым хочется рассказать мне свою историю, что уже не считаю такие встречи ни странными, ни случайными. Люди исчезают внезапно, как и появились, а слова остаются…
История Яны напомнила мне растерявших друг друга во времена войны Мерсовых. Писала дипломную работу, когда училась во ВГИК. Экранизация Альбера Камю «Посторонний» превратилась в русскую «Неприкаянность» 1995 года действия. Думала, так драматичнее, за год до отмены смертной казни. Мерсо, естественно, стал Мерсовым. «Жаль, не поставить, – сокрушались преподаватели. – Камю по числу постановок уступает лишь Ибсену и Шекспиру. Напиши-ка ты оригинальный сценарий». Написала – «Дом на усталость», потом первая повесть в сборнике «Пустые времена». А экранизацию забрали в интернет-базу сценариев – для студентов, вдруг какому режиссёру-выпускнику нужен сценарий для дипломной работы. Телефонные звонки не заставили себя ждать. Анне Мерсовой я объяснила тонкости перевода, и она страшно расстроилась. Но номер её остался, и когда позвонил Борис, я уже знала, как соединить их друг с другом. Потом звонил Глеб, потом… Австралия, Португалия, Израиль, Белоруссия, Канада, Одесса, Швейцария…
«Я поневоле стала пересечением, где сходились тонкие линии их надежд», – писала позже в романе «Фигуры памяти» о своей семье, тоже рассеянной по миру после революции. А в тот год получила благодарное письмо от Анны: семья большей частью воссоединилась, переписываются, ездят друг к другу в гости. Яна тоже искала своих много лет, писала письма в фонды, сёрфила в интернет. Наконец, в Польше были найдены архивные записи и могильные камни с датами. Писать было больше некому и незачем…
– После возвращения в Москву, мама начала сдавать. Будто точку поставила. Даже курить перестала. Не бросила, а прекратила. Не хочу, не нуждаюсь. Будто до этого у неё было зачем, для кого жить, а я лишила её…
– Смысла жизни?
– Всё, во что ты веришь сейчас, скоро утратит смысл, – ответила Яна. – Тропинка оборвётся над пропастью. Знаю, потому что ходила по ней. Над пустотой придётся натягивать верёвочный мост, а плести его – своими руками.
Верёвочный мост грозит верёвкой Иуды из романа Амоса Оза:
«… Но я оставил без внимания проклятие смоковницы. И упорно вёл Его в Иерусалим. А сейчас вот вечер спускается, и пришли уже суббота и праздник. Не для меня. Мир пуст…Первая звезда сияет в темнеющих небесах, и я говорю ей шёпотом: “Не верь”. Вон за тем поворотом дороги ждёт меня мёртвая смоковница. Я осторожно проверяю одну ветку за другой, нахожу подходящую и перекидываю через неё верёвку…». «Единственно верный христианин, не оставивший и не отрёкшийся, безоговорочно веривший, что Иисус действительно восстанет и сойдёт с креста пред всем Иерусалимом и на глазах у всего мира, единственный христианин, умерший вместе с Иисусом, не переживший Его, единственный, чьё сердце воистину разбилось со смертью Иисуса…».
Не предательство – его история, а утрата. Смысла бытия.
Я думаю, что на каждого из нас найдётся кто-то, кто скажет, что именно ты живёшь в его мечте, а тебе вдруг захочется удавиться. Потому что живём не мечтами, чего хотим достичь, а страхами – чего хотим избежать, предотвратить. А ещё о том, что Шалтиэль – безнадёжный мечтатель. Благая весть невоплотима. Искони люди запирают двери домов (уснёшь ли ты, зная, что в любой миг кто угодно может войти?), а государства – границы.
Я читаю книги об одиночестве, не о преодолении – о состоянии, исследуя все его грани. Изучаю время и что оно с нами делает, заранее осознав обречённость романов. Устарели. В прошлом веке время текло, а в жизни был сюжет, последовательность, непрерывность. Моё же сегодня разорвано на куски, фрагментарно, как посты в соцсетях, жизнь – как иллюзия присутствия, видимость существования.
«Клиповое сознание», – подсказал бы преподаватель по режиссуре. Но и этот термин уже устарел, клипу нужен монтаж, совместимость кадров во времени. Здесь же – одиночество простых чисел, делящихся лишь на себя, столкновение атомов в пустоте, дискретные вспышки: мигнул – вышел – забыли.
И всё же… Люди так много говорят друг другу, значит, высказанное где-то должно храниться. Когда писала роман «Проникновение», истово верила, что мир состоит из зеркал, природных, как вода, и искусственных, размноженных человеком. И все они считывают капли жизни и прячут отражения в некую базу данных, будто собирают фрагменты мозаики, снимают кино о каждом из нас. Доступ туда существует, но никем пока не открыт…
… Открываю дверь из подъезда во двор. Солнце слепит. Мимо проносится стайка подростков. Неуклюжая девчонка не успевает за всеми. Лёгкий, как оленёнок, мальчишка в жёлтой крутке исчезает за углом дома с другими. Запыхавшаяся девчонка поднимает с земли жёлтый капюшон…
Что она сделает дальше? Догонит и вернёт, чтобы спасти его от затрещин строгой мамаши за испорченную новую куртку, и заслужит если не признание, то хотя бы благодарность? Спрячет и унесёт домой, чтобы потом лунными ночами тайком вдыхать запах его волос? Нет, она повесила капюшон на ветку вербы – и медленно побрела назад, откуда они все прибежали. А что бы сделала я в саду расходящихся тропок?
– Перезимник, – сказала соседка, – это переходный период. Когда ещё ничего нет, но уже точно что-нибудь будет.
– Да, – ответила я. – Пока живы, всегда что-то ждёт впереди. Или кто-то.
Романы «Проникновение» и «Фигуры памяти» >>>
ДРУГИЕ ИСТОРИИ Мои книги | Подписаться на новости | Архив писем | Поблагодарить