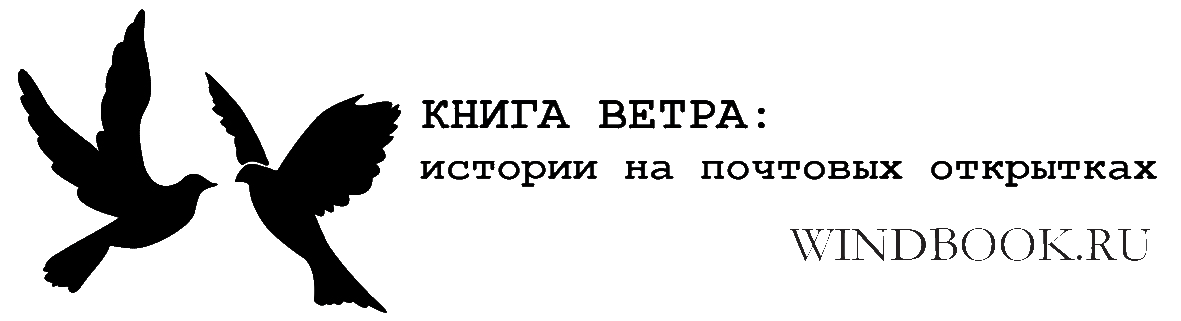Сильная любовь
Куприян всё-таки дожил до пенсии. Дожить-то дожил, но не пережил. В тот же день напился с друзьями на радостях, что закончились трудовые мучения, до дома кое-как доволокся, на второй этаж почти поднялся, да на предпоследней ступеньке споткнулся и кубарем скатился вниз. Там и остался лежать до утра. Утром соседка с первого этажа скотину собралась убирать, вышла в коридор и наткнулась на Куприяна, лежащего почти у самой её двери.
– Купрей, чего развалился у самого порога? Ни пройти ни проехать, – слегка пнула сапогом соседа Антонина. – С утра уже нализался, как свинья!
В ответ Куприян только что-то невнятно прохрипел.
– Что-что? – не расслышав, нагнулась над ним соседка и тут же резко отпрянула назад, разглядев синюшное лицо с запекшейся на лбу кровью. – Да ты чего, Купрей, ты чего? – испуганно прошептала Антонина, пятясь от скрюченного на полу соседа. – Плохо тебе, чего ли?
Наткнувшись спиной на собственную дверь, Антонина резко развернулась, рывком отворила её и прокричала вглубь квартиры:
– Федула, вставай, подь сюды! Твоему дружку Купрею совсем курдык, синий весь у нашего порога ляжит и еле дышит, кровью по всей башке присох!
– Ох-ма, чё орать-то, я чё, врач, чё ли? – раздался недовольный голос.
– Врач не врач, а поди посмотри, чего с им, я боюсь, – отодвинулась от двери Антонина, давая возможность мужу подойти к скрюченному соседу.
– Купрей, дружбан, ты чего? – склонился над бедолагой Фёдор.
– М-м-м, – промычал что-то в ответ Куприян.
– Купрей, не понял, плохо тебе? Повтори, – осторожно тронул за плечо друга Фёдор.
– А то не видишь, что плохо! – прикрикнула на супруга Антонина, придя в себя от потрясения.
– Да заткнись ты, – цыкнул на жену Федор, – без тебя разберёмся! Пойди поднимися лучше к Любке, скажи ей, что с мужиком ейным плохо, пусть спустится.
Боязливо обойдя соседа стороной, Антонина стала подниматься на второй этаж.
– Купрей, давай я тебя подниму, – попробовал оторвать друга от пола Фёдор, схватив его за подмышки.
– Хр-р-р, – захрипел Куприян, вытаращив глаза. И тут же из уголка его рта потекла кровь.
– Вот чёрт! – испугался Фёдор и уложил Куприяна обратно на пол. – Чего это с тобой?
– Хр-р-р.
На втором этаже громко хлопнула дверь, и раздался визгливый голос Любки:
– Ну и где этот алкаш?
– Я ж говорила, внизу лежит, синий весь, – ответила Антонина.
– Синий? Потому что законченный алкаш, – грузно спустилась вниз Любка и сходу с силой пнула лежащего мужа. – Вставай, падло, хватит народ баламутить!
– Хр-р-р.
– Ты, чё, дура, ему ж плохо. Глянь, кровь горлом идёт, – оттолкнул Куприянову жену Фёдор.
– Плохо ему! – скривила рябое лицо Любка. – Пить без меня не надо было, тогда б и плохо не было, а так боженька наказывает. Не фиг супругу законную динамить.
– Ну, эт вы отношенки-то свои потом завыясняете, – отодвинул Любку рукой подальше от мужа Фёдор. – А сейчас врачей вызывать надоть и за фельдшерицей сбегать. Давайте-ка, бабоньки, мухой, одна нога там, другая здесь, а я пока с Купреем побуду.
Через минут двадцать подошла фельдшер, посмотрела на Куприяна, достала мобильник и вызвала «скорую». Приехавшая «скорая» увезла мужика в больницу, где он и умер на следующий день.
Узнав о смерти мужа, Любка тут же отправилась в сельскую администрацию.
– Кать, горе у меня нынче, – притворно захныкала Куприяниха, войдя в кабинет главы поселения, – Купрей помер.
– Слышала, – отложила в сторону деловые бумаги Екатерина Матвеевна и сочувственно посмотрела на Любку, растиравшую кончиком чёрного платка сухие глаза. – Соболезную. Что делать собираешься?
– А что делать? Хоронить. Вот за деньгами к тебе пришла, поминки надо устраивать, туды-сюды, расходы одне. Я уж посчитала – только водки ящика три-четыре надобно, а закуски так и того больше. А ещё гроб, могилку копать, да мало ли… Так что тысяч десять давай, не меньше.
Сочувственное выражение на худом лице Екатерины Матвеевны сменилось удивлением.
– Ты, Любка, что-то путаешь. У нас тут не собес и не благотворительная организация. Помочь поможем, транспорт там – Куприяна из морга привезти, да на похороны, ну, венок от посёлка, а на водку и на прочее сама изыскивай, у меня на это деньги не заложены.
– Да ты чё, Кать, как не заложены? – покрылась красными пятнами Любка. – А где ж я возьму, у меня отродясь таких денег не бывало. Кать, ты чё?
– Кто ж виноват, копить надо было, а не пьянствовать всю жизнь, – строго оборвала Любкин визг Екатерина Матвеевна. – Работать надо было, а ты только и знала, что гулять и веселиться. Поезжай в собес, оформи бумаги о смерти на Куприяна, они тебе выделят тысячу-другую, на гроб хватит.
– Да на какой гроб?! – наливаясь злобой, заорала Любка. – Мне на поминки денег нет, а ты про гроб!
– Ну, про поминки с водкой ты забудь, киселя с кутьёй людям подашь, – стукнула по столу кулаком Екатерина Матвеевна.
– Да ты чё, дура? – визгливо завопила вдова. – Ты чё, издеваешься? Какой кисель, какая кутья, чё обо мне народ подумает?
– Ну, вот что, голубушка, – нахмурившись, поднялась из-за стола глава сельсовета, – иди-ка ты отсюда, пока я не передумала с транспортом. И мой тебе добрый совет – поезжай в район, в собес, пока рабочий день не кончился. А людям про тебя думать нечего, они о тебе и так всё знают.
– И на что я поеду? – сбавив тон, захныкала Любка. – У меня ни рубля нет.
– Что, вообще нет?
– Откуда, я ж не работаю, а этот даже пенсию первую не получил.
Екатерина Матвеевна укоризненно покачала головой, достала из своей сумочки кошелёк и протянула Любке триста рублей.
– На. На дорогу туда и обратно, хватит вполне.
– Ой, Катюш, спасибочки, – тут же просияла заискивающей улыбкой Любка. – Ты настоящая баба. Душевная. Всегда буду за тебя голосовать.
– Иди, иди уже, – отмахнулась от неё Екатерина Матвеевна.
Вечером из Куприяновой квартиры раздавались пьяные голоса.
– Почему так несправедливо на свете, а? Я тебя спрашиваю! – стучала кулаком по столу Любка, обращаясь к уже совсем охмелевшей соседке Антонине и её мужу Фёдору. – Вот подох мой и меня одну оставил. Это что, правильно? Не прощу ему!
– Да-к надо было и тебя с собою Купрею забрать? – пьяненько оскалился Фёдор, расстёгивая ворот полинявшей рубахи.
– Ты чё, придурок? – вылупилась на него вдова. – Я про то, на что жить мне до пенсии ещё три года.
– Да-к делай чегой-то нибудь, – Фёдор разлил по стаканам остатки самогона.
– Чего делай, чего делай? Больная вся, ноги не ходят, руки не шевелятся. Вот выпью, так ещё ничего, а как трезвая, хоть вой.
– Ну, может, пенсию по потере кормильца запишут, ты к Катьке-то сходи завтра, узнай, не откладывай, – хитро сощурил глаза сосед и опрокинул в себя содержимое стакана.
– А что, есть такая? – оживилась Любка.
– А то! – важно подтвердил Фёдор. – Хоронить Купрея когда будешь?
– Вот завтра у Катьки пенсию за кормильца получу, тогда и буду.
– Ну, ладно, бувай, что ли, как нужен буду – позовешь, – Фёдор поднял свою жену с табуретки и, шатаясь, повел её к двери.
С утра Любка нетерпеливо топталась у сельсовета.
– Ну, оформила бумаги, деньги получила? Когда за Куприяном машину посылать? – подошла к двери Екатерина Матвеевна.
– Ты, Кать, мне зубы не заговаривай, ты мне пенсию на потерю кормильца выпиши, тогда и поедем.
– Подожди-подожди, – опешила Екатерина Матвеевна, – что-то я не пойму, какую пенсию, какого кормильца? Ты вчера в районе была, в собес ходила?
– На кой мне твой собес? – завизжала вдова. – Что мне там сдалось? Из-за тысячи унижаться? Не ездила я туда и не поеду. Да ты мне на мозги не капай, а лучше пенсию выписывай на Купрея, на мою поддержку. У меня денег, ни копейки совсем.
– Как – денег нет? – ахнула Екатерина Матвеевна. – Я ж тебе дала вчера триста рублей!
– Фу ты, ну ты, триста рублей, – сплюнула на землю Любка, – тоже мне деньги!
– Постой-постой, так ты их пропила? – дошло до Екатерины Матвеевны.
– Не пропила, а помянула Купрея с соседями. А что, нельзя? – нагло подбоченилась Любка. – Или копеек своих пожалела? Подачкой откупиться решила?
– Пожалела, вот теперь точно пожалела. Ну да ладно, впредь наука.
– Так как насчёт пенсии?
– Совсем у тебя от сивухи мозги брякнулись, – укоризненно покачала головой Екатерина Матвеевна. – Ты что, дитё несовершеннолетнее? Это им такие пенсии назначаются, да и то не мной.
– А кем?
– Да какая разница кем, тебе всё равно не светит. Ты лучше скажи, когда за мужем поедешь? Уже второй день пошёл, а хоронят по обычаю на третий.
– А вот сама и хорони по обычаю, – с ненавистью взвизгнула Любка. – А у меня денег нет.
– Да ты что, Любка! – аж всплеснула руками Екатерина Матвеевна. – Побойся Бога, он же муж твой. Ты с ним сколько прожила? Лет тридцать-тридцать пять?
– А сколько б ни прожила, не твоего ума дело. Хоронить не буду, пусть государство хоронит. Вот! – удивилась своей неожиданной мысли Любка.
– Как же так? – возмутилась Екатерина Матвеевна. – Он же тебя всю жизнь поил-кормил, сына родили. Что Серёга скажет, когда из тюрьмы вернётся? Спросит, где батькина могила, а ты ему что?
– А ничего, на кой ему такой батька. Серёга его никогда не любил, он ему всегда до лампочки был.
– Тьфу на тебя! – в сердцах сплюнула в сторону Любки Екатерина Матвеевна. – Последний раз спрашиваю, в район поедешь?
– Денег дай.
– Нет.
– Ну, тогда сама и хорони, – отвернулась от Екатерины Матвеевны Любка.
Все последующие дни Любка слонялась по деревне пьяная и жаловалась людям:
– Что за жизнь, разве это жизнь? Похоронить мужика не дают по-человечески, что он, и на пенсию хоть одну не заработал?
– Ты б не пила, а бумаги в собесе оформила бы да и похоронила, – осуждающе неслось ей в след.
– Какие похороны без поминок? – сетовала Любка, не замечая неприязни окружающих.
– А тебе только б напиться. Жалко ведь Купрея, хороший мужик был, а похоронят как собаку, под номером, – жалели Куприяна на деревне.
– А мне что, не жалко, мне не жалко? – пускала слезу Любка. – Мне больше вашего жалко, как я без могилки… И помянуть некуда придтить будет, и помру – лежать мне не рядом.
– Так езжай, забери Куприяна.
– Пусть Катька хоронит, у меня денег нет, – злобно огрызалась в ответ Любка и уходила прочь.
На восьмой, со смерти Куприяна, день Екатерина Матвеевна сама прошлась по деревне и к обеду набрала необходимую для похорон сумму. А уже утром девятого дня закрытый гроб с телом покойника стоял у сельской администрации для прощания. Соседи ближние и дальние подходили к домовине, скорбно переговаривались между собой, некоторые крестились. К полудню на деревенском кладбище появился свежий холмик, укрытый пахучим лапником, сверху положены были четыре красные гвоздики и воткнута табличка с фамилией и годами жизни покойного. Благоверную Куприяна ни до, ни после похорон в тот день так никто и не увидел.
А через три дня непросыхавшая от пьянства Любка споткнулась на предпоследней ступеньке своего дома и кубарем скатилась вниз, свернув себе шею.
Утром Антонина в коридоре наткнулась на разбитое тело соседки и дико закричала от ужаса.
– Купрей за собою забрал, сердечную, – сделал вывод нахмурившийся Фёдор, не обнаружив пульса у Любки. – Любил, видать, сильно.
Каменный Клаус
Юный Клаус Штейн вот уже битых шесть минут с остервенением давил и давил на кнопку взрывного устройства, но всё было напрасно, оно не срабатывало. Клаус Штейн разрыдался. Через минуту он выскочил из укрытия и что было сил побежал вдоль старого еврейского кладбища по направлению к ещё более старой синагоге. Когда до цели оставалось не более ста пятидесяти метров, Клаус Штейн нажал на спусковой крючок автомата. Эта еврейская семейка вся легла у его ног. И отец, и мать, и две девчонки-близняшки, и этот розовощёкий десятилетний мальчишка, тащивший за собой самокат. Клаус Штейн сразу определил виновника своей неудачи – у мальчишки из кармана коротких штанишек торчал кусок провода, того провода, который вёл к взрывному устройству. Юный Клаус Штейн мог бы доказать этот факт, но кому это сейчас было интересно, перед кем оправдываться, когда не исполнен приказ. Оставалось только пнуть с досадой убитого мальчишку и бежать прочь, подальше от собственной смерти, которая приближалась на броне русского танка, выворачивающего на улицу Майзела с Широкой улицы.
Очень старый Клаус Штейн приехал в Прагу спустя семьдесят три года. Он никогда не думал о том, что вернётся в этот город своего позора, но последние лет шесть ему бесконечно снились кошмары о невыполненном приказе. Клаус Штейн никому не рассказывал о своём проколе, даже жене. Может быть, он и поделился бы с ней этим в конце концов, но она уже двадцать лет была мертва, умерла задолго до его навязчивых воспоминаний о сорванном задании.
Клаус Штейн не хотел обращаться к врачу, но несколько месяцев тому назад привокзальная цыганка неожиданно схватила его за руку и, глядя в глаза, тихо прошептала: «Ты должен туда поехать». Старик не стал ничего переспрашивать, он даже не удивился.
Клаус Штейн приехал в Прагу ровно в тот день, когда семьдесят три года тому назад в ярости нажимал и нажимал на кнопку взрывного устройства в надежде на отмщение тем, кто когда-то предал Христа. У него был приказ взорвать Староновую синагогу, в которой нашли убежище на излёте свирепой войны несколько десятков еврейских семей, сумевших сохранить каким-то чудом свои жизни.
Клаус Штейн приехал в Прагу в надежде освободиться от тех видений, которые преследовали его последние годы и высасывали его драгоценное здоровье. Он вернулся в прошлое, чтобы обрести настоящее.
Опираясь на изящную трость, Клаус Штейн медленно шёл от Староместской площади по Парижской улице в сторону еврейского квартала Йозефов. Он не спешил. Вечерело. В какой-то момент старик свернул на улицу Червеную и оказался в еврейском предместье. Пройдя ещё один квартал, Клаус Штейн устало опустился на скамейку, стоявшую напротив выхода из старой синагоги. Молитвенный дом был уже закрыт.
Клаус Штейн тяжело дышал, он был стар, и неблизкая дорога сильно утомила его. Старик прикрыл веки и стал ждать.
Так прошёл час, потом другой. Улицы вокруг синагоги опустели, город окутала ночь. Клаус Штейн продолжал в глубокой задумчивости сидеть на скамейке, не ощущая майской ночной прохлады.
Ровно в полночь из синагоги вышел высокий мужчина крепкого телосложения. Он на минуту остановился, поднял воротник плаща, чуть сдвинул на лоб шляпу, вытащил из пачки сигарету и закурил. Бросив спичку в урну, незнакомец неспешно направился к скамейке Клауса Штейна.
Казалось, что Клаус Штейн уснул. Мужчина положил свою тяжёлую руку на плечо старика. Через мгновение всё тело Клауса Штейна задёргалось в конвульсиях, лицо в свете фонаря побледнело и покрылось потом. Ещё миг – и Клаус Штейн в ужасе побежал по улице Майзела в сторону Широкой улицы. Там он резко свернул и помчался по направлению к Влтаве.
Клаус Штейн бежал. Это было удивительно. Бежал старик, бежал, как юный мальчишка, быстро и легко. Ничто в нём и близко не напоминало согбенного инвалида с тростью в руке. Куда-то исчезли одышка и хромота, куда-то исчезли девять десятков прожитых лет. Клаус Штейн бежал, как тогда, в мае сорок пятого, когда он удирал от русского танка, неожиданно выехавшего на улицу, что вела к так и не взорванной им синагоге. Клаус Штейн вновь стал молодым.
Штейн бежал во всю прыть, пока, споткнувшись о брошенный детский самокат, не упал навзничь, сильно ударившись обо что-то головой. Клаус Штейн потерял сознание.
Очнувшись через какое-то время, Клаус Штейн неожиданно для себя разрыдался. Он давно так не рыдал. Пожалуй, с того случая, когда произошёл этот досадный сбой с уничтожением синагоги. В течение получаса Штейн никак не мог успокоиться, его трясло, как в лихорадочном ознобе. Но постепенно всхлипы затихли, и истерика прекратилась.
Клаус Штейн стал осматриваться кругом. И чем быстрее он понимал, куда занесло его необычное преследование, тем тяжелее становилось у него на сердце. Эта тяжесть усиливалась от ощущения движения сотен и сотен могильных надгробий, окружавших со всех сторон Штейна. Тяжесть в груди усиливали и кладбищенские деревья-исполины, росшие тут с незапамятных времён. При свете луны они, будто сказочные чудовища, размахивали своими ветвями, создавая иллюзию присутствия рядом со Штейном множества душ умерших евреев. Клаус Штейн чувствовал, что теряет рассудок. Казалось, ещё чуть-чуть – и он окончательно сойдёт с ума.
И в этот момент метрах в восьми от Штейна из-за надгробных плит неожиданно появилась группа людей. Впереди шли мужчина и женщина, за ними две девочки одинакового роста и, чуть приотстав, мальчишка лет десяти. Мальчик на мгновение остановился, поднял с земли самокат и повернул голову в сторону Клауса Штейна. Этого было достаточно, чтобы Клаус узнал его. Штейн убил этого мальчишку тогда, в мае сорок пятого. Убил его и всю его семью. Расстрелял в упор из шмайссера. Расстрелял и рассмеялся.
Клаус Штейн засмеялся и сейчас. Засмеялся, как смеялся только в юности, открыто и счастливо. Смех придал ему сил. Клаус Штейн встал и украдкой последовал за убитой семейкой. Покинув кладбище, он осторожно продолжал идти за ними, стараясь бесшумно ступать по брусчатке. Штейн выслеживал их, чтобы убить окончательно, раз и навсегда.
Улица Широкая сменилась менее широкой улицей, потом ещё менее и ещё, пока не сузилась до двухметровой ширины. В конце последней улицы в тусклом свете одинокого фонаря, в старом двухэтажном обветшалом здании, обнаружилась деревянная дверь, источенная жучком. Глава ненавистной семейки взялся за дверное кольцо и впустил жену с детьми внутрь.
Через минуту туда же проник и Клаус Штейн. Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, Штейн вдруг резко обернулся. Позади него не было двери. Позади него была сплошная каменная стена. У стены стоял давешний незнакомец. Он снял шляпу и широко улыбнулся: «Добро пожаловать в ад, юный Клаус Штейн, добро пожаловать в каменный ад, в ад вечного безмолвия!».
Юный Клаус Штейн узнал незнакомца. Он читал о нём в книге, случайно попавшей в его руки перед тем, как выполнить приказ по взрыву Староновой синагоги.
Это был Голем*.
_____________
*Голем – глиняный великан, которого, по легенде, создал праведный раввин Лёв для защиты еврейского народа. Лепится из красной глины в рост 10-летнего ребенка, имитируя таким образом действия Бога.
Дмитрий Воронин в Facebook >>>
Статья о творчестве Дмитрия Воронина в журнале «НАШ СОВРЕМЕННИК» >>>