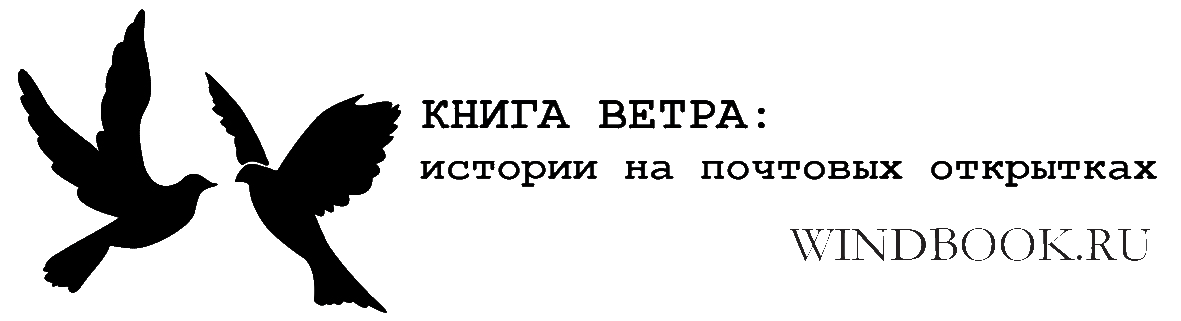(избранные рассказы)
Гуманиториум
Варламовой и раньше снились дурацкие сны, но сегодняшний побил всех конкурентов в номинации «Бред года». Всё. Хватит. И так сердце не на месте.
Может? Стоит? Подумать? О другой? Работе?
Нет.
Нет?
Нет. Сейчас бросить Патча?! Ну уж…
— Нинк, ты чего вскочила ни свет, ни заря? — Лёша, посмотрев время, вернул телефон на тумбочку, сладко потянулся и отвернулся к стенке. — Ещё шести нет… Сегодня ж эта… суббота… ауы…
— Что, Лёшик? — Нина не расслышала, что прозвучало за «ауы».
Однако муж уже сладко посапывал.
Голова почти не болела, но варить кофе в турке было лень. Заряжать машину тоже. Пока закипал чайник, Варламова сыпанула в чашку две ложки молотого, кинула туда же кубик рафинада из неаккуратно порванной коробки и, не сходя с места, пошарила рукой в холодильнике. Словно фокусник, выудила на свет божий баночку обезжиренного йогурта. С отвращением взглянув на пару тощих подсохших кусков хлеба, замотанных в мятый целлофановый пакет, перевела взгляд на занавески. Хлеб выкидывать не стоит — Лёшка проснётся, есть захочет. Пусть хотя б на бутерброды ему будет. А шторы пора стирать. Срочно. Или, ещё лучше, купить другие. Новый год на носу.
Плеснув в чашечку кипятку, Нина лениво разболтала содержимое и наконец-то уселась на табурет.
Сон… Доработалась, называется. Вот к чему это?
Лабораторный любимец — условно говорящий скворец Мичурин — сидит на ветке раскидистой липы, той самой, что, должно быть, уже сто лет растёт прямо напротив балкона. И держит в зубах… тьфу ты! В клюве — конечно же, в клюве, — какие у птицы зубы?! Сигарету. Прикуренную. Но изумляет, как ни странно, совсем не это. Подумаешь, курит. Всякое, в конце концов, бывает. Интересно, как он вытащит её изо… из клюва, чтобы выпустить дым? Словно услышав Нинины мысли, Мичурин поднимает правую лапку, тянется ею за почти истлевшим хабариком, но, не удержав равновесия, тут же соскальзывает с ветки. И вполне ожидаемо шлёпается в сугроб. Дурачок…
Беспардонно прервав вялые размышления, запиликал телефон.
В четверть седьмого? Кому это я понадобилась в выходной? Да ещё в такую рань… Казаринову? Нет, не ему. Номер незнакомый.
Положив ложечку с йогуртом обратно в пластмасску, Варламова вытерла салфеткой неосторожную капельку на руке и коснулась высветившейся зеленью иконки. «Ответить».
— Алло?
— Нин Витальна?
— Угу, я… вроде, — вздохнув, кивнула хоть и нелепо искажённому, но всё ж, похоже, собственному отражению в чайнике.
— П-простите, что в такое время, — (голос испуганный, женский), — это Света, практикант.
— Доброго утра, Света-практикант. Что-то случилось? — Варламова неожиданно шумно хлюпнула кофием. Чёрт! Язык обожгла…
— С-случилось, Нин Витальна, — чуть запнувшись, ответила девчонка. И тоже хлюпнула. Носом. Она что, плачет?
— Свет, ну говорите уже, — встревожено потребовала Варламова. — Что там у вас?
— Евгень Ваныча на скорой у-увезли, — шмыгнув, проговорила практикантка. — Вы б не могли приехать? Я тут совсем одна. Всех обзваниваю, никто не отвечает… Вот, только вы…
— А что с Казариновым? — у Нины нехорошо засосало под ложечкой.
Шеф накануне выглядел неважно. Мягко говоря. Ещё бы, такое происшествие.
— Сказали, сердце, — ответила Света. — Я чай ему сделала, вошла в мониторную, а он… он на полу лежит… Без сознания… Хрипит только. Врач из скорой… из скорой… врач… Возможно, инфаркт. Но точный диагноз поставят только в стационаре, сказали… Приезжайте, а? Пожалуйста… Мне… мне тут как-то…
— Уже одеваюсь, — Варламова, резко поднявшись из-за стола, опрокинула чашку.
Чёрт! Чёрт!! Чёрт!!!
Горячий сладкий кофе разлился по клеёнчатой скатерти мерзкой лужей. Вот зарраза! Надо ж ещё умыться, потом макияж…
Слава Богу, до здания лабораторного комплекса, где расположен Гуманиториум, ехать не надо. Всего-то пара кварталов от дома. Иначе — труба. Минус тридцать на улице. Только двигатель прогревать четверть часа. Жуть.
«Гуманиториум» — древняя, как мир, казариновская шутка, удачно трансформировавшаяся в официальное название. Великолепно оснащённая лаборатория в здании бывшего НИКа. Полтора десятка комнат, где ведутся наблюдения за «особо продвинутыми» приматами. На первом этаже в левом крыле. Отдельный вход. Удобно. Иначе, пока доберёшься через проходную по всем коридорам, с ума сойдёшь. Комплекс огромен. Не телецентр в Останкино, конечно, но тоже впечатляет. И размерами, и кретинизмом внутренней архитектуры.
Света открыла сразу после звонка. Будто ждала прямо за дверью. Может, и ждала? А, не важно! Приснопамятный скворец Мичурин, досель дремавший на специально для него подвешенных над вахтенным столом качельках, встрепенулся, приняв грудью волну морозного воздуха.
— Здравствуйте, Светлана. Фьють, Мичурин!
— Фьють, Вар-вар-лам, — весело прокаркал птах, взмахнул крыльями и уже через секунду сидел на Нинином плече.
— А ну-к, кыш, Мича! Дай, разденусь, — Нина лёгким щелбаном по клюву согнала скворца и, стягивая с плеч дублёнку, обратилась к практикантке: — Свет, скажите, Казаринова давно увезли? И, да… Повторите, где вы его нашли? По телефону не расслышала.
— Минут сорок уже, — снова шмыгнула носом девушка. Всё никак не могла успокоиться. — Он с вечера в дальней мониторной сидел, за серыми наблюдал.
— За серыми? — переспросила Варламова. — Так и думала.
— Что-то его сильно беспокоило…
Света отошла к столу, включила настольную лампу. Подняла журнал.
— Думала, Евгень Ваныч какие-то записи оставил… Нет, не оставил… Вот, смотрите.
— Верю вам на слово, — покачала головой Нина. — Слушайте, а Патча с Джумбо вчера не расселили?
— Нет, — робко улыбнувшись, пожала плечами практикантка. — По-моему, нет. Меня Евгень Ваныч вообще просил в отсеки не соваться… А я вот… чай ему… А он… на полу… вот…
— Ладно, Света, — перебила Варламова. Она, уже в халате и туфлях, поглаживала вновь переместившегося на своё плечо Мичурина, — давайте поступим так: я сейчас схожу к серым, а вы, пожалуйста, останьтесь здесь. На телефоне. Вдруг кто звонить будет. Во сколько, говорите, Казаринова в добром здравии в последний раз видели?
— Часов в десять.
— В десять?! А потом? — Нина в негодовании изогнула брови.
— А потом… — эхом отозвалась Света, — я… заснула. Но я ж не специально, Нин Витальна!
— Не специально она, — покачала головой Варламова. — В общем, Свет, как договорились. И больше не спать. А я пошла. Мича, кыш!
Троица «серых» — неизвестного досель вида приматов — поселилась в Гуманиториуме больше двух лет назад. Российские спасатели привезли их из западной Уганды, где в начале позапрошлого лета горели уникальные реликтовые леса на склонах массива Рувензори. Ну, наши, как обычно, спасали Всемирное наследие ЮНЕСКО и попутно выручали очередной относительно-братский народ. Возили гуманитарную помощь, эвакуировали из наиболее опасных районов население, тушили огонь. Серые — самка и двое самцов — во время очередного рейда сами забрались в один из транспортников и наотрез отказались покидать воздушное судно даже в аэропорту Кампалы. Угандийские власти тоже отмахнулись от «каких-то там обезьян». Мол, сейчас разве до них?! О людях надо думать: где расселять, во что одевать, чем кормить, наконец. Беда. Так наши серые и оказались в Москве. То ли в качестве подарка, то ль, чтоб одной проблемой меньше. Но факт есть факт — африканцы о них за прошедшие месяцы так ни разу и не вспомнили.
Спасатели, что вполне естественно, сразу же передали бедолаг в зоопарк. Там отважных мужиков, что тоже вполне естественно, сердечно поблагодарили, а вот нежданным гостям не просто удивились или обрадовались — не то слово! Проштудировав все известные справочники и классификаторы на всех известных же науке языках, не побрезговав от отчаяния ни википедией, ни би-би-сишным научпопом, признались в недостаточной собственной эрудиции — беспомощно развели руками. Ну, нет таких нигде! Нет, понимаете?! Новый вид. И вполне себе оригинальный. Очень похожий на шимпанзе, но всё ж иной. И ростом повыше — пусть не слишком сильно, и статью — структурой скелета — ближе, нежели все прочие, к нам, к человекам (почти) разумным. И шерсть не такая густая, да и цвета иного — пепельно-серебристая. В общем, уже не «Pan troglodytes» (шимпанзе обыкновенный), но ещё и не «Homo Sapiens» (на русский переводить?). Этакий легендарный «Homo troglodytes». Потерянное звено эволюции… Отчего бы, впрочем, и нет? Сколько в мире огромном чудес и загадок?!
Для зоопарков подобные обитатели бесценны, ясное дело. «Потерянные звенья эволюции» — они, как правило, не для всеобщего обозрения. Бананами сквозь прутки можно и обыкновенных макак кормить. Точнее, макак — гораздо забавней. Эти, в отличие от наших «иммигрантов», свысока на неразумных человеческих детёнышей не зрят и радуются подачкам вполне искренне.
Короче, так и попала странная троица в Гуманиториум к известному на весь бионаучный мир профессору Казаринову. Более того, получила в распоряжение «апартаменты» вполне приличного уровня. Аll inclusive. Две комнаты, оборудованные датчиками тепла и влажности, циновками для отдыха, отхожим местом и даже бассейном, умело сооружённом в виде крохотного озерца с небольшим же водопадиком на электроприводе. Плюс — трёхразовое питание, обогащённое необходимыми минералами и витаминами. Позже, когда проведённые тесты показали замечательные результаты интеллектуального развития новых постояльцев, в «апартаментах» появился и телевизор с набором музыкально-развлекательных программ. И кровать с пружинным матрацем — пусть, без постельного белья — для Патча, так старшего самца назвали. Младшие — самка Дора и мускулистый Джумбо — жёсткие циновки менять на по-человечески полноценные спальные места решительно отказались. Кстати, упомянутый Патч проявил склонность не только к комфорту, но и к прикладному творчеству. К рисованию. Получил школьный альбом и набор восковых цветных мелков.
Лаборанты меж собой шутили, что такими темпами серые через год-другой вполне себе заговорят. И столовыми приборами пользоваться начнут. Вновь прославят теорию замечательного Дарвина, ныне небезуспешно подменяемую домыслами о внеземном происхождении человеческих цивилизаций.
Шутки шутками, а Казаринов радостно потирал руки. Пусть Дора и Джумбо целыми днями торчат в бассейне или валяются на циновках перед телевизором, отвлекаясь только на кормёжку и плотские утехи, Патч продолжает удивлять. Мало того, что в койке спит, «калякалы-малякалы» в его альбомчике через несколько месяцев сменились вполне достойным «примитивизмом» — на рисунках примата можно было разобрать нечто, напоминающее геометрические фигуры, ещё чуть позже появились вполне узнаваемые очертания гор и деревьев (видать, из воспоминаний). А на прошлой неделе Евгений Иванович показал Варламовой настоящий портрет. Пусть, был тот уровня воспитанника старшей группы детского сада, но на неидеального овала лице, изображённого Патчем субъекта, отчётливо сверкали жёлтые дуги очков. Никаких сомнений.
— Это ты, Ниночка! — восторгался Казаринов. — Твоя, твоя оправа! В круглых у нас никто больше не ходит. И не возражай.
— Возможно, — пожала тогда плечами Варламова.
Но в душе твёрдо осознала: Евгений Иванович прав. Её портрет. Её. Нины Варламовой. Ай-да Патч!
Вообще, Варламовой было безумно интересно проводить время с этими странными созданиями, гораздо меньше похожими на других обитателей лаборатории — горилл, орангутанов и шимпанзе, — нежели на её сотрудников.
К слову, те самые сотрудники Гуманиториума выполняли исключительно свои обязанности: вели наблюдения, проводили тесты, следили за здоровьем своих питомцев, за их рационом. Писали диссертации. В общем, все делали научную карьеру, в тайне (а порой и без стеснения, вслух) мечтая когда-нибудь занять место Казаринова. Точнее, два места — на университетской кафедре и здесь, в исследовательском комплексе. Что ж, людей можно понять. В конце концов, нет предела совершенству, не так ли?
Одна лишь Варламова ни на что особо не претендовала. Значась в дипломе о первом высшем «преподавателем истории и обществоведения», она в начале девяностых, когда с оплачиваемой работой был серьёзный напряг, устроилась в БиоНИК. В хозяйственную службу. Как раз в то самое подразделение, что обеспечивало всем необходимым в том числе и Гуманиториум Казаринова. Много позже, лет через десять, не слишком общительный Евгений Иванович, отчего-то привязавшийся к обязательному завхозу, буквально вынудил Нину поступить к себе на биофак, пусть и на заочку. Чтоб соответствовать профилю и не попасть под сокращение. Опасения на то были. Лабораторное здание неожиданно для всех выкупила у РАН вполне прагматичная холдинговая компания, решившая заняться модными ныне фармразработками и производством лекарств. «Зверский дом», как называли научно-исследовательский комплекс в народе, начал активно перестраиваться. Сначала пропали уникальные виды пернатых, которыми был заселён весь верхний, оборудованный стеклянной крышей, этаж. Потом в сводчатых цокольных помещениях начали «растворяться» в быстро высыхающих аквариумах и бассейнах чудесные глубоководные рыбы и невиданные морские чудовища. Ещё через некоторое время разъехались по зоопаркам все прочие пресмыкающиеся, земноводные и млекопитающие. Кроме стремительно размножающихся колоний белых крыс и флегматичных кроликов, чьи организмы так необходимых прикладной науке.
Но фундаментальный Гуманиториум удалось сохранить. Каким-то невероятным чудом. И, несмотря на времена, всё ещё веским словом Евгения Ивановича Казаринова, что публично пообещал начинающим фармакологам мировую славу жестокосердных неучей и недальновидных разорителей…
Впрочем, о том, «как, за что и почему», с темой повествования напрямую не связано.
Посему вернёмся обратно.
Да, так получилось, что Нину всё ж из развалившегося НИКа сократили. Но Казаринов, памятуя о своём обещании, из лаборатории её не отпустил. Устроил младшим научным сотрудником, сохранив обязанности снабженца. Правда, теперь Варламовой никто не запрещал входить в помещения, где содержались приматы. И это Нину радовало больше всего.
Гуманиториум создавался в советские времена как лаборатория, изучающая — ни больше, ни меньше — происхождение человека. Да, да, от обезьяны. Успехи, несомненно, были. Но до появления здесь серых, все прошлые достижения, в отличие от вполне осязаемых госпремий и грантов, можно было отнести к разряду гипотетических. Высшие приматы — изучай их, обучай, создавай им различные условия содержания — ни малейших признаков «чисто человеческого» поведения не проявляли. Инстинкты упорно продолжали доминировать над разумом.
С началом же наблюдений за Патчем, Дорой и Джумбо ситуация кардинально изменилась. Приматы — а то, что среди питомцев казариновской команды теперь оказались неизвестные ранее, но всё ж обезьяны, никто не сомневался — эволюционировали. Простите за громкое и не совсем верное слово. Не эволюционировали, конечно. Но. Они прекрасно обучались и серьёзно развивались. В полном соответствии с теми, естественно, условиями, в которые были помещены.
Данные серых (увы, видовое имя им так и не придумали) впечатляли и изначально. Объём головного мозга около девятисот кубических сантиметров — почти в три раза больше, чем у шимпанзе. Генетическая база совпадает с человеческой на девяносто девять и две десятых процента. «Офонареть…», — только и смог вымолвить Евгений Иванович, увидев результаты первых тестов. И немедленно взял подписку со всех причастных сотрудников: информация никоим образом не должна была покинуть стен Гуманиториума до полного окончания исследований и официальной публикации отчёта. «Это, друзья мои, не просто сенсация. Гарантированная Нобелевка. Бомба!»
Да, Нине было безумно интересно проводить время с этими странными созданиями. Ну, если быть до конца откровенной, не с тремя. Только с одним. С Патчем.
Миниатюрная кокетливая (если только возможно применить сей эпитет к обезьяне) Дора и долговязый — под метр восемьдесят — Джумбо всем своим образом жизни отдалённо напоминали героев туповатых телесериалов о жизни обеспеченных бездельников. Побрей им морды, сделай пластические операции, заставь одеться — и будет не отличить от каких-нибудь дона Альвареса и сеньоры Гутиэррес. Знай, целыми днями в бассейне плещутся, в телевизор пялятся, орехи лузгают, сплёвывая скорлупу прямо на пол, да (пардон) совокупляются в любых местах, не обращая ровно никакого внимания ни на сотрудников, временами присутствующих в «апартаментах», ни на на Патча. В общем, ведут себя, как животные. Впрочем, а кто они, если вспомнить? Животные и есть. Приматы. Даром, что высшие.
Другое дело — Патч. О его художественных способностях уже упоминалось. А ещё…
Нина, несмотря на свои годы — продолжающиеся второе десятилетие «чуток за тридцать» — выглядела гораздо моложе своих лет. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок. Единственное, что могло испортить её не лишённое привлекательности лицо — очки. Но это случилось бы в прошлом, когда страшные минус девять обрекали хозяина на постоянную носку массивной роговой оправы — другая просто не выдержала б веса толстых стёкол. Продвинутые ж «нулевые» решили проблему легко и элегантно. Даже если отказаться от контактных линз, невесомый оптический пластик в тоненькой модной оправе просто не мог испортить внешность ни в каком другом случае, кроме полного отсутствия вкуса. Вкус у Варламовой был. Что называется, врождённый. Но — остаточное явление детства и юности, нашпигованных презрительными усмешками — раскрепощённой особой Нину назвать никто б не осмелился. Видимо по причине внутренней скованности и замуж она вышла слишком поздно. Рожать не захотела. Испугалась собственного возраста. Или перегорела. Если б муж настоял, Нина конечно б решилась. Но в том то и дело, что Лёша не настаивал. В его первой семье дети были. Два великовозрастных балбеса студиозуса…
В общем, что там, да как — не со стороны судить. Много нюансов, разбирать которые — только время тратить. Да и незачем в личную жизнь нос совать глубже позволенного элементарными приличиями. Уж коль речь пошла о серых, пусть о них и продолжается.
С Патчем было действительно интересно. Если сотрудники Гуманиториума, не исключая и самого Евгения Ивановича, относились к нему как простому объекту исследования, то Нина видела в этом странном примате… личность? Пожалуй. Как бы неожиданно это ни звучало.
Началось всё с того — это произошло ещё в первые недели пребывания серых в лаборатории, — что Патч затребовал себе одежду. Случилось это так.
Утром после кормежки, когда в «апартаменты» для уборки вошла Нина — было её дежурство, — Патч забился в угол и прикрыл скрещёнными ладошками… Ну, вы понимаете. Застеснялся? Хм… Варламова среагировала неожиданно. Она, оставив метёлку у стены, вышла и вернулась через минуту в сопровождении Казаринова. И с чистым халатом, захваченным в кладовой. Примат повёл себя в высшей степени по-человечески. Взяв протянутую ему одежду одной рукой и продолжая прикрывать причинное место другой, он негрубо, но очень настойчиво начал подталкивать женщину к выходу. Плечом. Евгения Ивановича не тронул. Гендерная идентификация? Скорее всего. Но и ещё кое-что. Некто ж должен был помочь облачиться в униформу, не так ли?
Нет, оставаясь в помещении со своими сородичами, Патч вновь раздевался. Видать, халат он всё-таки недолюбливал. Тот сковывал движения, ясное дело. Но с тех пор в Гуманиториуме вошло в привычку стучаться перед входом к серым. И входить тоько после пронзительного крика, извещающего о разрешении. Казаринов, да и другие сотрудники, глядя в монитор, как Патч реагирует на стук — бросается к кровати, на которой лежит халат и неуклюже его натягивает на свои широкие плечи, — только дивились. Смеялись, видя, как пытается застегнуться, как у него ничего не получается — из толстых пальцев гладкие пуговицы постоянно выскальзывают, в отчаянье машет рукой, запахивается и только после этого кричит в направлении двери, позволяя войти. Не смешно было только Варламовой.
— Изверги, — только и произнесла она, увидев однажды на экране мучения бедного примата.
— А послушайте-ка, Ниночка, — обратился к ней тогда Казаринов, — вы ведь у нас теперь полноправный научный сотрудник. Так?
Нина, отчего-то смутившись, нерешительно кивнула.
— Вот вам и карты в руки, — улыбнувшись, ответил Евгений Иванович. — В конце концов, это ж вы принесли Патчу халат и тем самым обрекли его на перманентную пытку. Предложите что-нибудь другое, чтобы избавить товарища от мук…
На следующий день Патч щеголял в новых пижамных штанах. Во фланелевых. На резинке. Сшитых Ниной пусть без мерки, на глазок, но старательно и очень аккуратно. Джумбо с Дорой смотрели на сородича, как на идиота. Впрочем, тот на них особо внимания не обращал и выглядел по-настоящему довольным…
Ещё через год на весь Гуманиториум прогремела другая сенсация.
К этому времени к штанам Патча все уже более-менее попривыкли и посмеиваться перестали.
Нина, которая в тот памятный день дежурила на раздаче корма, заметила, что её любимец какой-то слишком уж печальный. И голодный, что ещё хуже. Меж тем в тазике с гречневой кашей и курицей — любимым лакомством серых — еды ровно на одного. Абсолютно довольные жизнью Дора с Джумбой уже валяются перед телевизором, вытирая жирные руки о собственные мохнатые животы.
— Что это такое?! — строго произнесла Варламова, обращаясь к Патчу. — Уж не заболел ли ты, дружочек?
Тот, словно поняв, о чём его спрашивают, быстро замотал головой из стороны в сторону. А потом сиганул стремглав под кровать и вынырнул уже со своим альбомчиком для рисования. С шумом пролистнув несколько исчёрканных страниц, он остановился на одной и протянул альбом Нине. Там, что естественно, был рисунок. Не совсем обычный. Никаких цветных каракулей. Только большой неровный круг, нарисованный безотрывной чёрной линией, и кружок маленький. С торчащей из него палочкой.
— И? Объяснитесь, юноша, — потребовала Варламова и в удивлении уставилась на Патча.
Тот, изобразив красноречивыми жестами, объяснился более чем доступно.
Так в «апартаментах» появились столик, стул, а также миска, в которой теперь подавали еду умному примату. Ну и ложка, естественно. На обучение пользоваться ею ушла целая неделя. Однако результат того стоил.
Нина не могла понять, откуда Патч вообще узнал про столовые приборы, но Казаринов лишь пожал плечами.
— По телевизору увидел. Это ж элементарно, Ниночка. Не заметили, какой он у нас наблюдательный? Вовсе не удивлюсь, если этот субъект через месяц перестанет пить воду из бассейна и потребует кружку.
Ровно через месяц и потребовал. Настойчиво. Кружку. Профессор, как и обещал, совсем не удивился…
На исходе второго года пребывания серых в Гуманиториуме ситуация в «апартаментах» переменилась. Родила Дора. От Джумбо, естественно. Патч к самке вообще старался не прикасаться. То ли не испытывал интереса, то ли брезговал, но, скорее всего, просто не имел желания. Проведённые тесты показали, что возраста он уже более чем солидного. Для обезьян, естественно. За сорок.
Получалось, что они с Варламовой практически ровесники. Ох и наслушалась тогда шуток Нина от Евгения Ивановича. Впрочем, шуток беззлобных. На такие обижаются лишь глупцы.
Гораздо хуже, что Джумбо стал совсем неадекватным и практически неуправляемым. Это всех лабораторных сильно беспокоило. А как же иначе? Сначала в приступе ревности чуть малыша не придушил (Доре, оказавшейся на удивление замечательной матерью, было сейчас совсем не до плотских утех), потом пытался приставать к Патчу, но, получив жесточайший отпор, переключился обратно на «семью». Терроризировал несчастную Дору с такой силой, что пришлось в срочном порядке переводить самку с детёнышем в отдельное помещение.
Джумбо рвал и метал. Пытался даже любимый телевизор расколошматить стулом Патча. Не получилось — надёжное пуленипробиваемое стекло, защищавшее экран, могло выдержать и не такую агрессию. К самому Патчу тоже «на пьяной козе» не подъехать. Пусть и был Джумбо почти на голову выше сородича, но поставленный удар старшего «товарища» (вопрос — где и кем? ещё в природных условиях, когда приходилось ежедневно бороться за жизнь?) отрезвлял буяна мгновенно.
Недели через две после отселения Доры Джумбо впал в состояние апатии. Мог сутками напролёт сидеть перед телевизором или в бассейне. Почти ничего не ел. Так, прикасался к пище лишь раз в день. Должно быть, чтоб не умереть с голоду. И вновь возвращался в сомнамбулическое состояние.
Казаринов беспокоился. Просил Варламову поговорить с Патчем, чтоб тот как-то повлиял, что ли? И ничего смешного тут нет. Нина действительно с ним общалась. Постоянно. Давно. Практически с самого появления серых. Рассказывала какие-то истории из жизни, делилась впечатлениями от книг, фильмов… Патч слушал. Внимательно. Иногда гримасничал — улыбался или печалился, иногда одобрительно кивал головой, а порой и отрицательно покачивал. Со стороны казалось, что он всё понимает. Только сама Нина вопреки насмешкам скептиков искренне верила, что так оно и есть. Естественно, понимает. Ну и Казаринов со временем проникся. Тоже поверил? А кто его знает? Возможно. Только виду старался не показывать. Статус не позволял, ясное дело.
Ну, Нина и поговорила. Что с неё, убудет?
На следующий день Джумбо получил место за столом Патча. И собственные миску с ложкой. Не в обиду наставнику, но орудовать столовым прибором он научился гораздо быстрее. Всего за день. А вот от штанов отказался. И от мелков с альбомом тоже. Зато проявил интерес к боевым единоборствам. Кто-то из практикантов однажды случайно переключил телевизор в «апартаментах» с музыкального канала на спортивный, по которому как раз шли бои без правил. Казаринов, узнав об этом, пришёл в негодование, но ликвидировать прокол, увы, уже не смог: Джумбо начинал пронзительно выть и бить по циновке рукой, если видел на экране что-то другое…
Накануне вечером Варламова проводила с Патчем «занятие по этикету». Учила пользоваться ножом и вилкой. Джумбо самозабвенно скакал перед экраном, пытаясь повторить движения спортсменов, от души метелящих друг друга перед телекамерами. Патч сосредоточенно мычал и скрипел зубами, воткнув вилку в антрекот. Пытался отрезать от него кусочек прилично-допустимого размера. Располовинить мясо уже получалось неплохо, но вот отделять тонкие пластины пока не удавалось. Впрочем, Патч — терпеливый ученик, всё у него обязательно…
Неожиданно Нина почувствовала сильную боль — кто-то ухватил её за волосы и рванул из-за стола. В глазах потемнело. Потеряла сознание. Но перед тем ощутила, что волосы её освободились и услышала истошный крик…
Пришла в себя в мониторной, лёжа на диванчике. Рядом на табурете сидел Казаринов.
— Очнулись, Ниночка? Слава Богу, — с облегчением выдохнул профессор. Через несколько секунд заговорил вновь. Но не с Ниной. Будто б сам с собою, тихо и невнятно: — Ох, как это всё неприятно. Нда… Что нам теперь делать? Не понимаю… Если Джумбо сошёл с ума, Дору с малышом возвращать к нему никак нельзя… Патч… Их надо как-то…
— Что произошло, Евгень Ваныч? Что это было? — Нина с трудом приняла вертикальное положение. Голова раскалывалась.
— А? Что? А-а… Джумбо на вас напал… Если б не Патч… Я даже представить боюсь, что б с вами могло случиться… Нет, всё же они — обычные животные… Да, очень умные и способные к развитию через познание, но о недостающем звене эволюции придётся забыть… Ах, как жалко, Ниночка… Как жалко… Анальгину выпьете?
— Анальгину? — нет, она ещё туго соображала. — Джумбо сошёл с ума? Напал?
— Напал, — кивнул Казаринов. — Да, да, именно напал. Он видит в вас, понимаете ли, обычную самку… простите. Никакого пиетета… Животное. Если б не Патч, даже… Вы б отправлялись, Нина, домой. Давайте вызовем такси? Я сегодня сам за вас подежурю. Кого-нибудь из стажёров попрошу остаться. Девочка там у них есть, тёмненькая такая, с короткой стрижкой, смышлёная… Как её?
— Света?
— Да, да, Света… Её и попрошу, если не ушла ещё. А Патча сегодня же вечером переведу в четвёртую. Она ведь у нас свободна?
В четвёртой комнате неделю назад умер старейший обитатель Гуманиториума — орангутан Геркулес.
— Свободна, Евгень Ваныч… И всё-таки… Что там произошло?
— Идите, Нина, идите… если чувствуете, что можете идти, — проговорил Казаринов, тяжело поднимаясь с табурета. — Вы и так сегодня… Да и некогда, простите великодушно. В понедельник поговорим. Или завтра, если хотите. Хорошо?
— Хорошо, Евгень Ваныч, — Варламова, собравшись с силами, поднялась с диванчика, потрясла головой — больно конечно, но терпимо — и пошла к выходу в коридор. Вдруг вспомнив нечто важное, остановилась у двери, обернулась. — Профессор, у них посуду б надо убрать. Там, кроме тарелок, вил…
— Что? — не дав договорить, повернулся к ней Казаринов. Выглядел он совершенно потерянным. — Посуду? Да, да, уберём… Идите, Нина, идите… Свете скажите… или, если ушла, ещё кому…
И вот уже утро. Полное нехороших и тягостных предчувствий. Ещё сон этот идиотский…
Варламова прошла через пост наблюдения — мониторную — к двери, ведущей в «апартаменты». Взялась за ручку, подёргала. Закрыто? Странно. Задвижка-то в «зелёном» положении. Изнутри заперлись? Но как такое возможно? Чертовщина, право слово…
Нина отошла к столу, уселась в кресло и подвигала джойстиком. Огромный монитор с изображением, разбитым на двенадцать секторов — по количеству камер, моргнул и ожил. Никакого движения…
Так, а это что?
Четвёртая камера направлена на входную дверь. Что??? Стул? Они зафиксировали дверь, вставив ножку стула в дверную ручку? Ну, вообще! А ещё говорит — не потерянное звено… Эй, сами-то где спрятались? Ага, один, кажется, есть. Восьмой сектор. Без штанов. Значит, Джумбо. Но какого лешего, простите, он дрыхнет на голом полу возле бассейна? И поза какая-то странная… рука в воде… Боже, что это?! Ох ты…
Из кармана запиликало. Телефон. Евгень Ваныч? Ну, слава Богу!
— Нина Витальевна Варламова? — голос, говоривший в микрофон казариновского аппарата был не знаком.
— Да. Кто это? Вы звоните с теле… — Нина не договорила.
Её перебили:
— Доктор Жуков, кардиология. Нина Витальевна, соболезную, но профессор Казаринов несколько минут назад скончался.
— Что?
— Евгений Иванович умер, Нина Витальевна. Вы… вы меня слушаете? Он…
Надо…
Надо взять себя в руки. Закрой глаза и дыши. Глубоко. Выдыхай. Меееедленно.
Раз — два-а… Раз — два-а…
— Нина Витальевна, вы…
— Да. Извините, пожалуйста. Просто…
— Понимаю. Вы… вы сейчас в состоянии говорить? Или, может, созвонимся попозже?
— Я в состоянии, — Варламова старалась говорить спокойно. Пока получалось. — Но почему вы звоните мне?
— Такая штука… — доктор сделал небольшую паузу. — Такая, понимаете… В общем, Нина Витальевна, Казаринов попросил… Профессор перед смертью ненадолго пришёл в себя и единственное, что он попросил, это позвонить вам и передать… Вы меня слушаете?
— Да, да, я вас внимательно слушаю. Что он просил передать? Доктор?
— Секундочку… Он сказал дословно: «Патч не имеет к этому отношения. Это сделал я. А компьютер дал сбой. Записи нет»… Нина Витальевна, вы что-нибудь поняли?
Взгляд остановился на стакане с остывшим чаем. На том самом, что засоня практикантка принесла профессору ранним утром. Теперь ему — чёртову чаю — один путь. В канализацию…
«…а компьютер дал сбой. Записи нет…»
Один? Один путь? Э, братцы! Мы ещё повою…
— Нина Витальевна! Алло!
Ох, зараза! Врач же на линии.
— Нина Ви…
— Да, доктор. Простите, мысли… Я всё прекрасно поняла… Всё. Спасибо вам. Родственникам мы сами сообщим. Вы только, если кто-нибудь спросит, подтвердите, пожалуйста, последние слова профессора. Хорошо?
— Естественно, Нина Витальевна. Если вы разрешаете. А то этика, понимаете ли…
Патч открыл не сразу. Минут через пять. И только тогда, когда Варламова перестала стучать, назвалась и попросила: «Патч, это я, Нина. Открой, пожалуйста. Ну, Патч!»
Он стоял перед дверью с опущенной головой. Весь в крови. В разорванных, потерявших привычные цвета, фланелевых штанах. Одной рукой держался за бок. Так, словно у него переломаны рёбра. В другой, опущенной и подрагивающей с частотой нервных импульсов, сжимал измятый альбом. Нина заметила, что тот раскрыт на страничке с… её портретом?
Да. Нет сомнений. Именно с её.
— Пойдём-ка, дружочек, в другую комнату. Тебя надо осмотреть… а здесь прибраться. Пойдём?
Патч поднял голову и пристально посмотрел Варламовой в глаза. Потом протянул ей альбом, и, когда Нина взяла, кивнул. В сторону мёртвого Джумбо, лежащего возле бассейна с сервировочным ножом в глазнице, она старалась не смотреть…
* * *
Несмотря на субботу, Гуманиториум кишит народом. Приехали, кажется, все.
Ещё бы!
В то, что умер профессор Казаринов, убив перед собственной смертью одного из своих питомцев — Джумбо — верится с трудом. Даже если Евгений Иванович и впал в какой-то дичайший приступ неконтролируемой ярости, чего с ним никогда не случалось, то вонзить нож не в сердце, не в шею, не в живот… Впрочем, документально подтвердить или опровергнуть факт теперь всё равно практически невозможно. Какой-то олух пролил сладкий чай на внешний диск. На тот самый, на который велись записи наблюдения. Алексей Варламов — экстра-профессионал и одновременно шеф айтишного отдела исследовательского фармкомплекса — говорит, что займётся проблемой лично. И, вероятно, он сможет восстановить кое-какие моменты. Но гарантий — вот засада — не даёт.
Все суетятся, бегают туда-сюда, создавая броуновское движение тел в белых халатах.
Одна только Нина сидит за дежурным столом возле входа, покачивает на трапеции довольного Мичурина, что-то ему говорит. Какую-то ерунду. Вот, послушайте:
— Эх, Мича… Сейчас бы курнуть. После всего-то, а? Жаль, давно бросила. Вон, даже спички какой-то садюга оставил, — на столе возле альбома с её портретом работы мастера Патча лежит пошарканный коробок. — Они издеваются, да? Про сигаретку-то забыли… И стрельнуть не у кого. Вот ведь зараза, нынче все некурящие… Слушай, Мичурин! А у тебя, случаем, нет? Сигареты?
— Вар-вар-лам, — отвечает умный скворец и вдруг, шумно расправив крылья, взлетает к самому потолку. Оттуда планирует на шкаф, шуршит чем-то, должно быть, роется клювом в припрятанных «сокровищах». Наконец, появляется на краю с зажатой в зубах… Тьфу ты! В клюве… Конечно же, в клюве! Ну, какие у птиц зубы?!
Мятая цигарка, принесённая Нине умницей Мичуриным, лежит на столе рядом с коробком. Но желание курить пропало.
Хочется домой. На машине. Пешком дико холодно. Минус тридцать.
Хочется домой. Очень. С Лёшкой и с Патчем.
Которые, слава Богу, есть.
Да. Есть.
И с Евгень Ванычем.
Которого, к сожалению, уже нет.
Нет…
Такой вот гуманиториум.
Наледь
(из дневника реаниматолога)
8 июля
Мысли, мысли, мысли… Они постоянно роятся в моей голове, вызывая чувства и эмоции, окрашиваясь попеременно то в светлые тона, то в тёмные, играют оттенками и нюансами, лучатся светом, погружают во мрак. Или летят неизвестно куда, только дай слабину, доставь им ничтожный шанс обрести волю…
Ох уж мне эти стереотипы.
Ну почему, скажите, если кто грубо сквернословит, он обязательно «матерится, как сапожник»? Вы речь… ну, например, кровельщиков слышали? Или грузчиков? Или тех же менеджеров в курилке? Отчего, если зол человек, то непременно «как собака», а хитёр «как лиса»? Дома у меня живёт милейшее и совершенно бесхитростное четвероногое создание обычной для улиц породы «полутакс». По имени Лисицын. Нет, ясное дело, не по имени, конечно, а по кличке. Хоть раз бы на кого, собака, рыкнул или недобро тявкнул. У самого зла порой не хватает, когда вижу, как мой Лисицын облизывает физиономию моей же тёще, старухе склочной и зловредной. И за что, спрашивается? За колбасу? За косточку? В том-то всё и дело, что не за лакомства свои собачьи, не за гастрономические радости, а просто так, от искренней своей любви ко всему живому. Сволочь ласковая!
Впрочем, мысли мои сегодня не о том Лисицыне, а о совсем другом, в честь которого добрейший полутакс, подобранный на улице в нежном возрасте, и был назван. О старом моём знакомом — о Гоше.
Этот самый Гоша Лисицын, интеллигентный человек, пусть простоватый и немного застенчивый, обладатель густой рыжей шевелюры и совершенно альтруистического характера имени матери Терезы, работает сапожником. Арендует малюсенькую — полтора на полтора — коморку, спрятавшуюся под дальней левой лестницей огромного торгового комплекса, возведённого некими уникальными градостроителями на месте уникального же старинного квартала позапрошлого века, некогда украшавшего совсем неинтересный ныне центр.
Клиентов у Гоши не очень-то много. В основном, старые, такие же, как и я, знакомцы, что не могут до сих пор привыкнуть с появлением трещинки на подошве тут же нести любимые боты на помойку. Сколько лет прошло, а не выветрились у нас из головы воспоминания об очередях за чехословацкими туфлями или за югославскими сапогами по записи в профкоме. Может наш сапожник, если возникнет в том надобность, не только профилактику поставить, набойку на каблучок или хитрую противугололёдную подковку с шипчиками, но и подошву поменять, валенки подшить и даже прохудившиеся резиновые сапоги хитрой заплаткой-аппликацией украсить. Знает всех нас, постоянных, не только в лицо и по фамилии, заносимой неизменным, предварительно послюнявленным химическим карандашом, в журнал, но и по имени (старших — по имени-отчеству). Для каждого у Гоши припасена улыбка, доброе слово, свежий анекдот без клубничного привкуса, а если придёте вы с малолетним дитём своим или внуком, то для чада и карамельная конфета «Гусиные лапки» в аппетитно шуршащей слюдяной обёртке наверняка отыщется…
Гоша появился в нашем городе чуть меньше двадцати лет назад — восемнадцать или девятнадцать. Точно не помню. Но дело было летом, в середине июля.
Я, дипломированный врач-реаниматолог, тогда уже работал в городской больнице, заведовал отделением интенсивной терапии, распределившись туда в начале восьмидесятых после окончания мединститута и прохождения интернатуры. Обычная, казалось бы, профессия. Вполне мирная и в перечне медицинских специализаций особо ничем не примечательная.
Так вот… В то время далеко на юге, в горах, шла война. Да, да, та самая, которую ныне называют первой чеченской или вооружённым конфликтом на Северном Кавказе. Не знаю, чем и кто принял такое нелепое решение, но в наш городок, отстоящий от зоны боевых действий на добрую тысячу вёрст, постоянно привозили раненных и покалеченных бойцов. Нет, «серьёзных» почти не было — тех прямо с передовой авиацией переправляли либо в Ростов, который, к слову, гораздо ближе к Кавказу, либо, в особо тяжёлых случаях, в столицу. К нам же поступали, в основном, с лёгкими пулевыми, с контузиями и переломами. «Подранки», одним словом, как мы их меж собой называли.
Случалось, правда, что военмеды торопились с диагнозом, и у нас оказывались практически приговорённые. Но разве можно наших коллег за это винить? С их-то бессонными сутками и нагрузкой, превышающей все мыслимые пределы. Впрочем, я не общественный деятель и не политик, чтоб взывать к совести и читать нотации.
Лисицын как раз и оказался из таких «ошибочных». После очередной заварушки — об этом я узнал много позже — санитары каким-то чудом заметили макушку, торчащую из сугроба, и откопали паренька. Живого. Но в бессознательном состоянии. Был тот не так, чтоб очень, но обмороженным. Плюс — ранение в голень. Как водится, аккуратно переложили на носилки и в полевой госпиталь. Там тоже беглый осмотр провели, промедолом укололи, временную перевязку сделали и к нам на самолёте. Им бы удивиться, что бедолага даже не стонет в беспамятстве, внимание обратить на пониженную температуру тела, полный осмотр сделать. Да кто разбираться станет, когда ежедневно такой наплыв пациентов, что только и успевай рассортировывать?!
В общем, только через сутки оказался Гоша у нас. Игорь Иванович, наш ведущий нейрохирург, мужик дотошный и обстоятельный, волею случая оказавшийся в те сутки на дежурстве в приёмном покое, и заметил при осмотре аномалию. Небольшое отверстие в затылочной части черепа. Почти бескровное, а потому практически незаметное под отросшими волосами. Сам тотчас и операцию провёл, прекрасно понимая, что переправлять такого пациента «по инстанции» может обойтись слишком дорого.
— Слушай, Андрей, ты, пожалуйста, к этому пацану будь повнимательней, хорошо? К Лисицыну, — мы с хирургом курили на лестничной клетке.
— Что-то не так, Игорь Иваныч? — я сделал очередную затяжку и пристально посмотрел ему в глаза.
— Андрюх, чертовщина с ним какая-то… Нет, операция прошла нормально, дырку я от костных осколков вычистил. Пули там не было. Да и не похожа рана на огнестрел. Как от заточки. Или… Знаешь, однажды мужика оперировал, которому с крыши на голову сосулька упала, пробила череп. Так, очень, я тебе скажу… Впрочем, не стану. Домыслы. А по нашему делу я так думаю — серьёзных повреждений мозга быть не должно. Может, разве, амнезия временная возникнет или нарушение речи… но это не страшно. Бог даст, восстановится. Меня другое волнует — слишком уж он холодный. Словно неживой давно. Как труп, понимаешь? Тьфу-тьфу-тьфу, — хирург поплевал через левое плечо и постучал костяшками пальцев по облупившемуся подоконнику.
— А поподробней, Игорь Иваныч, — я, честно говоря, не очень понимал, о чём он говорит.
Хирург затушил окурок о плевательницу, служившую пепельницей и, вытащив из кармана халата портсигар, достал новую сигарету. Прикурил.
— Андрей, я не знаю, что это, — он в задумчивости выпустил облачко дыма. — Сестра измеряла температуру до операции и после. На градуснике шкала начинается с тридцати четырёх… так вот… ртуть не подымается… И на ощупь он… — Игорь Иванович потрогал пальцами отключённый радиатор под окном, — точно такой же… Если не холоднее… Бррр…
Его передёрнуло. Я на автомате потянулся к батарее. Холодная.
— Правда что ли?
— Ты думаешь, я с тобой тут шутки шучу? Прости, Андрюха, как-то совсем не до веселья. В общем, глаз да глаз за ним, договорились? Если что, вызванивай, будем разбираться вместе. А сейчас… Сейчас мне пора в приёмный.
Игорь Иванович бросил незатушенную сигарету в плевательницу и, махнув рукой, пошёл вниз по лесенке. Я, докурив, вернулся в отделение.
Зайдя в палату, где под капельницей лежал новенький, я, ещё не прикоснувшись к нему, понял, что Игорь Иванович душой не покривил. Что-то тут было не так. В помещении чувствовалась для времени года непривычная, мягко говоря, прохлада. Словно кондиционер работал на полную мощность. Но какие у нас, в простой провинциальной больничке, кондиционеры?!
— Андрей Ильич, — сестра при моём появлении вышла из процедурной, примыкавшей к палате, — он вообще жив?
— А что такое? — ответил я вопросом на вопрос.
— Да так, — пожала она плечами, — холодный, как из мертвецкой.
— Дышит?
— Да дышит вроде, — неуверенно пожав плечами, ответила сестра.
Я подошёл к кровати и, потрогав пациенту, не пришедшему в сознание, лоб, рефлективно отдёрнул руку. Бррр… Теперь и меня передёрнуло. Ужас! Словно лёд… Мистика какая-то.
— Пульс посчитайте, давление измерьте. И температуру, — велел я. — Если не подойдёт обычный градусник, снимите с окна уличный. Только промойте хорошо и спиртом протрите. Будем думать, что с ним делать. Нда-а…
Пока медсестра выполняла мои указания, я достал из кладовой пару масляных обогревателей, которые мы включали зимой во время особенно сильных холодов, и подключил один к электросети. Немного подумав, врубил и второй. На полную. Минут через пять стало теплее.
— Андрей Ильич, пульс — двадцать пять, давление — пятьдесят на тридцать, — подошла к моему столу сестра, — да и температура…
— Что — температура? Не тяните.
— Два градуса…
Я поднял на неё глаза и заметил, как у девчонки нервно дергается веко. Верить собственному слуху мой мозг решительно отказывался.
— Сколько? — переспросил я.
— Д-два, — заикнувшись, повторила медсестра. — М-минус.
Я сжал кисти рук так, что побелели костяшки. Минус два! Да этого просто быть не может! Бред! Он же в сосульку с такой температурой должен превратиться… а кровь? Кровь, судя по пульсу и давлению, циркулирует. Действительно, прав Игорь Иванович — чертовщина какая-то.
— Так, знаете что?! — обратился я к сестре.
— Что, Андрей Ильич?
Я достал из кармана бумажник и положил его на стол.
— Сходите-ка в аптеку, я там вчера новое чудо техники видел — электронные термометры. Купите один. Нет, лучше два. Мало ли… Понимаю, что дорого. Но надо. Не экономьте, договорились? Берите самые надёжные и качественные.
— Ладно, Андрей Ильич, — сестра, кивнув, взяла кошелёк, — что-то ещё?
— Да, кое-что, — мне в голову неожиданно пришла сумасшедшая идея. — На обратном пути заскочите, пожалуйста, в ЛОР, у них должен быть раствор хлористого кальция. Возьмите банку. Нет, тоже две. Чтоб не бегать лишний раз. Вдруг, поможет. А?
— Горячими хотите проколоть?
— Посмотрим, — туманно ответил я. — Всё, идите. А я пока кровь на повторный анализ возьму. Не дай Бог, аллергия на препараты…
Горячие помогли. Вкупе с другими процедурами. Хоть и не сразу. Сказать, что мы с Гошей намучились — ничего не сказать. Полторы недели сутки напролёт с ним рядом находился кто-то из врачей или младшего медперсонала. Кроме уколов делали разогревающие растирания, обкладывали тёплыми грелками, поили через трубочку разогретым куриным бульоном, что специально варила моя жена. Я и сам пять суток не выходил с работы. Да и заснуть больше чем на пару часов не мог. В конце концов, наши старания дали результат.
Однажды вечером, решив не беспокоить уставшую медсестру, прикорнувшую на кушетке в процедурной, я поменял Лисицыну в капельнице банку с физраствором и уселся за стол заполнять журнал. Гоша к тому времени хоть в сознание и не пришёл, но практически «оттаял». Давление поднялось, пульс участился. Да и температура тела стабилизировалась на тридцати двух градусах, поэтому инъекции хлористого кальция и грелки мы решили отменить, оставив лишь разогревающий массаж. Радиаторы тоже убрали — в помещении вновь воцарился привычный климат.
Для тех, кто ни разу не бывал в отделении интенсивной терапии или, попросту, в реанимации, дам небольшое разъяснение, как там всё выглядит. Привычных палат нет. Есть галерея комнат, отделённых одна от другой стеклянными перегородками. В первой стол дежурного доктора, который таким образом видит всё происходящее собственными глазами. В последней — процедурная. На самом деле, процедурной как таковой она не является, это, скорее, склад медикаментов, расходников и комната отдыха медсестёр. А все необходимые реанимационные действия проходят непосредственно в палатах, оборудованных необходимыми приборами. Что поделать — специфика. Всего отсеков для больных у нас пять, на два койко-места каждый. Обычно все они заняты — площадей хронически не хватает. Летом, правда, посвободней. Люди в отпусках предпочитают не болеть. В то ж самое время, когда в больнице появился Лисицын — удивительное дело — у нас кроме него вообще никого не было. Ну не чудо?
Так вот, Гоша, что вполне естественно, лежал в первом отсеке-аквариуме. То есть, прямо передо мной. Отделённый лишь парой метров пространства и стеклянной стенкой. Дверь между дежуркой и палатой была открыта. Как я ничего не увидел и не услышал, до сих пор не укладывается в моей голове, но факт остаётся фактом. Не увидел и не услышал. Наверное, увлёкся не столько канцелярской работой, сколь собственными мыслями, что тоже порой случается. Вернул на землю меня телефон. Звонила баба Аля, медсестра из приёмного покоя.
— Андрюшенька Ильич, скажите, пожалуйста, Георгий Лисицын — ваш пациент?
— Мой, — ответил я и на автомате глянул сквозь перегородку.
Гошина кровать пустовала. Я почувствовал, как сжалось сердце. В голове зашумело — скакнуло давление.
— Андрюша, вы слушаете? Аллё! Андрей Ильич! — надрывалась тем временем трубка.
— Да! — нервно крикнул я, чувствуя, что впадаю в истерику. — Алевтина Петровна, Лисицын пропал! Надо срочно…
Но меня перебили:
— Всё нормально, Андрюшенька, у меня ваш Лисицын. Не беспокойтесь. Я его сейчас чайком напою и к вам провожу. Аллё! Андрей Ильич, вы…
Но я уже летел вниз, перескакивая через две ступеньки.
Картина, которую я увидел в приёмном, заставила меня опереться спиной о стену. Чтоб не упасть. Мой пациент, как ни в чём не бывало, сидел на табурете и, ловко орудуя шилом, толстой иглой с суровой нитью, служащими для прошивки документов, чинил стоптанный мужской полуботинок. Рядышком суетилась Алевтина Петровна — баба Аля, наша старейшая медсестра. Заваривала в стаканах чай и выкладывала в мисочку знаменитые на всю больницу пироги и плюшки собственного приготовления. Увидев меня, Лисицын робко улыбнулся, мгновенно покраснел, опустил взгляд на башмак и продолжил работу. Баба ж Аля обрадовалась мне словно родному сыну.
— Андрюшенька, дорогой мой, берите стул, подсаживайтесь, будем чайком баловаться. Вы ведь пирожки с яблоками любите?
— Да, люблю, — кивнул я, — но позвольте, Алевтина Петровна…
— Сейчас я всё вам, Андрюша, объясню, — вновь улыбнулась баба Аля. — Тут Игорь Иваныч заходил, жаловался, что подошва оторвалась, так Гошенька взялся ему ботинки починить. Ах, какой мальчик, золотые руки! Смотрите, как работает. Прям, любо-дорого.
— Георгий? — обратился я к пациенту.
— Всё нормально, доктор, — не подымая глаз, полушёпотом отозвался Лисицын, — не волнуйтесь за меня. Простите, что без спроса от вас ушмыгнул. Уж больно лежать устал — спина затекла. Надо было, конечно, вам сказать…
— Да уж надо было, — вздохнул я, подвинул стул к столу, уселся и взял аппетитно благоухающий сдобой пирожок. — Лежать он устал… Спина у него затекла… Что мне теперь с тобой делать-то, а? Пороть, вроде, поздно…
Со скрипом открылась дверь. В покой ворвался ураган — я аж спиной почувствовал поток бешеной энергии. Так у нас в больнице появлялся только нейрохирург.
— А, Андрюха! — прогремел знакомый голос. Я не ошибся. — Хорошо, что заскочил. Баба Аля у нас нынче за буфетчицу. Не пробовал её стряпню? Рекомендую — пальцы отъешь! Гоша, как там мой башмак?
— Починил, Игорь Иваныч, — Лисицын протянул ботинок хирургу.
Покрутив его в руках, Игорь Иванович бросил туфлю на пол, скинул тапок, примерил.
— Молодец, хорошая работа. Сапожником до армии работал?
— Сапожником, — кивнул Лисицын. И зачем-то добавил: — ноги всегда должны быть в тепле.
— Особенно летом, — рассмеялся хирург, после чего обратился ко мне: — Сам видишь, Андрей, у тебя ему делать больше нечего. Недельку поваляется в нейрохирургии, и будем на выписку готовить. Ты как, не против?
— Давайте-ка, Игорь Иваныч, с выпиской торопиться не будем, надо ещё разок полное обследование провести, — я отхлебнул чаю. — А к вам в отделение перевести? Нет, я не против. Нужны мне такие бегуны, как думаете? — и подмигнул своему пациенту. Теперь уже без пяти минут бывшему.
В армию Гошу, естественно, не вернули. Комиссовали после ранения. На малую родину он тоже не поехал. Оказался детдомовцем, которого в своём городе ничего не держало. Малогабаритную квартирку свою, полученную за месяц до призыва, обменял на равноценную у нас. Так и остался. Проработал пару лет на обувной фабрике, а потом вдруг ни с того ни с сего уволился и арендовал у армян, которые, как известно, главные сапожники на всём постсоветском пространстве, шиферную будку. В старом квартале, на углу Свердлова и Диагональной рядом со старым же Домом быта, ныне уже снесённым. Когда торговый комплекс построили, его директор, племянник нашего Игорь Иваныча, по просьбе дядьки взял Гошу к себе.
И пошла для Лисицына обычная, казалось бы, жизнь. Никому стороннему не интересная. Посему, можно было б поставить здесь точку и попрощаться. Да только какой тогда было смысл вообще вытаскивать на свет Божий невесёлые свои мысли? Подумаешь, холодного привезли! Ну, так отогрели ведь. Препаратами, массажами, но более, я думаю, своим человеческим теплом, добрым отношением. Мало ли подобных случаев? Нет, не таких, конечно, в точности, но чем-то схожих. Думаю, предостаточно.
9 июля
Пожалуй, продолжу.
С момента как мы выписали пациента Георгия Лисицына, минуло лет десять.
Бабу Алю проводили на пенсию. Нет, ну сами посудите, разве ж можно в восемьдесят лет дежурить сутками? Да ещё в приёмном покое, где вечно сквозняки гуляют.
Спровадить-то мы Алевтину Петровну спровадили, но избавиться от неё оказалось задачей невыполнимой. Почти каждый день к нам захаживала, знаменитые свои пирожки с яблоками носила. Впрочем, никто и не возражал. Можно бабулю понять — ну чем, скажите, ей заняться, когда уж и внуки выросли?
Так вот, приходит она к нам однажды вечером. Мы с Игорь Иванычем в приёмном за шахматной доской сидели — он дежурил, я ж перед уходом домой на часок к нему заглянул. По доброй традиции.
Мы головы в сторону Алевтины Петровны повернули, уже рты раскрыли, чтоб поздороваться, а она как заголосит:
— Хорошо, ребята, что вы тут оба! Гошенька-то наш сбрендил! Совсем с ума сдвинулся и… и… и… — заело. За сердце схватилась, на кушетку повалилась, воздух ртом хватает, а сказать больше ничего не может.
Игорь Иваныч вскочил, воды в стакан плеснул, поднёс к баб Алиным губам. Петровна глоток сделала, рукой махнула в сторону, мол, там. Прохрипела что-то невнятное, разобрали только, что про хоккейную коробку.
— Ты, Андрей, иди, посмотри там, чего случилось, — взгляд хирург выразил нешуточную озабоченность, — только мне обязательно отзвонись.
Я кивнул, схватил с вешалки куртку — декабрь морозами нас пока не радовал, на улице вторую неделю держалась нулевая мразь — и, застёгиваясь на ходу, выскочил за дверь.
От нашей больницы до хоккейной коробки, если не торопясь идти улицами, то времени займёт минут пятнадцать. Можно, конечно, сократить путь, добраться дворами. Вот только тропинки в такую погоду, когда с переменным успехом с неба то льёт, то валит мокрый снег, превращаются непонятно во что. Сплошная жидкая грязь. И в вечернюю темень, дабы не сломать шею, лучше выбирать длинную дорогу.
Я хотел было срезать, но в последний момент выключил лишние эмоции, побежал по тротуару, то и дело натыкаясь на встречных прохожих. Даже не знаю, за кого тогда больше перепугался — за бабу Алю или за свихнувшегося Гошу. Естественно, пару раз поскользнулся, упал на колено, испачкал брюки и ушибся, но, слава Богу, ничего себе не сломал.
Картина, которая предстала перед моими глазами, когда я, наконец, оказался на месте, не столь напугала, сколько удивила.
Хоккейная коробка кишела неугомонной малышнёй. Кто-то сгребал сырую снежную кашу и выкидывал её за борта, другие попарно разгоняли воду тяжёлыми металлическими скребками, двое мальчишек, изо всех сил уцепившись за вырывающийся из рук шланг, хлещущий мощной струёй, пытались направить поток на ноги человеку, неспешно прогуливающемуся среди всего этого безобразия. Сам человек выглядел более чем странно и при внимательном рассмотрении… оказался Гошей.
Эта самая странность заключалась в том, что Гоша не просто шарахался среди мельтешащих вокруг него ребятишек, он был бос. Да, да, закатав штаны по колено, ходил по щиколотки в ледяной воде и… И я могу поклясться, что там, куда он ступал, вода покрывалась тоненькой корочкой льда…
Игорю Ивановичу я так и не позвонил. Забыл. Гошу тоже не окликнул, не выдернул с площадки. Почему-то решил, что моё вмешательство сей момент вовсе не требуется. Погрузившись в собственные мысли, я добрёл до дому, молча, чем несказанно удивил жену, поужинал, вновь оделся и, взяв дежурную авоську — до сих пор не могу привыкнуть к полиэтиленовым пакетам — направился в гастроном. Вот только ноги вели меня обратно — к той самой хоккейной площадке, откуда я ушёл уж почитай как полтора часа назад.
Из состояния анабиоза меня вывел звонок.
— Андрей, ну ты чего? — раздался встревоженный голос Игорь Иваныча.
— Я? Да так… Ничего, — невпопад ответил я.
— Ты куда пропал? Что там с Лисицыным?
— С Лисицыным? Эээ… с ним всё нормально. Баба Аля как?
— Заснула на кушетке. Я ей валокордина накапал, — уже более-менее спокойно произнёс хирург, — и всё-таки, Андрюш?
— Я зайду, ждите, — ответил я и нажал клавишу отбоя.
Гоша, уже в ботинках, стоял у борта и наблюдал за десятком мальчишек, выписывающими замысловатые пируэты на свеженьком, сверкающем в свете софитов, льду. Я подошёл, встал рядом, поздоровался:
— Привет, Георгий.
Гоша повернулся ко мне и открыто улыбнулся.
— Здравствуйте, Андрей Ильич. А я давеча вас видел. Ну… когда мы с пацанами каток заливали… Хотел окликнуть, рот раскрыл, а вас уж и след простыл.
Я пристально посмотрел Лисицыну в глаза, на минуту задумался, потом всё ж произнёс:
— Так мне не померещилось?
— Нет, Андрей Ильич, — ответил Гоша и покачал головой, — не померещилось. День был тяжёлый. Злой был день. Льда накопилось. Вот я и… А баб Алю я, похоже, здорово напугал, да? Надо б, наверное, извиниться.
— Надо б, — отозвался я и, взяв парня под локоток, сдёрнул с места. — Пойдём-ка, дорогой. Я думаю, мы с Игорь Иванычем, имеем право знать, какого такого льда у тебя накопилось. Так как, имеем?
— Вы? Да, да, разумеется, — не стал сопротивляться Гоша. Несколько смутившись, кивнул.
Мы молча вышли со двора на улицу и направились в сторону больницы. Но, ещё не дойдя до первого работающего фонаря, стали участниками удивительного происшествия.
Парочка молодых людей, идущая впереди, в каком-то десятке шагов, вдруг резко шарахнулась в сторону, и нам под ноги вылетел крохотный меховой комочек. Щенок! За ним, раззявив страшную пасть, нёсся огромный, устрашающего вида волкодав. Всё произошло так быстро, что я не успел опомниться.
Видимо, сработал тот древний инстинкт, который жив ещё в некоторых людях — инстинкт защиты слабого. Щенок каким-то невероятным образом оказался у меня за пазухой, сам же я, выставив вперёд локти, приготовился к неминуемому, казалось бы, нападению. Но Гоша меня опередил. Как в замедленном фильме я видел его голову, мгновенно побелевшую от инея, покрывшего вдруг густую рыжую шевелюру. Потом… Потом — я в этом могу поклясться чем угодно — из выброшенной вперёд ладошки Лисицына выросла длинная тонкая сосулька, которая через мгновение врезалась зверюге в голову и с треском рассыпалась на сотни мелких острых осколков. Не причинив псине сколь заметного физического вреда, противодействие напугало её до такой степени, что ещё несколько мгновений я наблюдал лишь поджатый хвост, трусливо загнувшийся между мохнатых лапищ, стремительно улепётывающих в сторону ближайшей подворотни.
На какое-то время у меня пропал дар речи. Когда я его обрёл вновь, мы уже стояли у входа в гастроном.
— Дай-ка зайду, — полушёпотом произнёс я. — Боюсь, без бутылки твою историю нам с Игорь Иванычем не осмыслить. Лисицына подержишь?
(Да, передавая щенка Гоше, я попросту оговорился, назвав животинку его, парня, фамилией. С тех пор этот ласковый подлиза и делит с моей семьёй жилплощадь, а также гордо носит вместо привычной для дворняги клички типа Шарик, Бобик или Барбос, своё героическое имя — Лисицын.)
10 июля
Мысли, мысли, мысли…
Я долго думал над Гошиной историей. И тогда, когда только услышал её, по пути домой. И всю следующую неделю, а, может, и не одну. И потом, глядя, как внучка радостно скачет вокруг неожиданно свалившегося ей на голову счастья в образе собственной собаки. Но поведать самую суть её, поделиться мыслями на её счёт всё ж не решался. Нет, Лисицын против сохранения своей тайны или, наоборот, предания её огласке ничего и никогда не имел. Он, как ребёнок, совершенно спокойно относится к жуткому Божьему дару и вовсе им не бахвалится. Так, применяет, когда в этом имеется необходимость. Не кричит на каждом углу, но особо и не прячется. Живя в собственноручно выстроенном крохотном мирке, Гоша, хоть и несколько наивен, но, тем не менее, догадывается, а, может, и знает, что человеку обыкновенному, каких на Земле подавляющее большинство, прослыть сумасшедшим или лжецом гораздо страшнее, чем просто поверить собственным глазам. Потому и спокоен.
Бабы Али не стало три года назад.
Игоря Иваныча, чьё горячее неравнодушное сердце не выдержало четвёртого инфаркта, похоронили на прошлой неделе.
Да и сам я, к сожалению, с каждым прожитым мигом отнюдь не становлюсь моложе. И не доверь я своих умозаключений, сделанных по поводу Гошиного дара сейчас, сию минуту — пусть даже только тетрадным листам — завтра я на это, скорее всего, и не решусь. Или поленюсь. Но оставлю лишь в своей голове. Факт.
В общем, тогда, промозглым декабрьским вечером, сидя в неуютном, продуваемом сквозняками приёмном покое за письменным столом — бутылку так и не откупорили, — мы очень тихо, не перебивая, слушали сбивчивый, пересыпанный междометиями рассказ не слишком-то, прямо сказать, счастливого человека. Но человека, под влиянием страшных обстоятельств научившегося делать то, о чём, должно быть, мечтают, многие из нас. Человека, трансформирующего горести и беды, страх и гнев в лёд, что, как известно, просто вода, пусть и в твёрдом своём состоянии. И главное, человека, научившегося этим льдом управлять, попросту снимая мёрзлую корку с сердца самым буквальным образом. Избавляясь от внутренней стужи, так часто сковывающей душу при виде несправедливости. Избавляясь от собственной внутренней боли и делая это во благо не только себе.
У меня перед глазами то и дело всплывает живая картинка, в которой я вижу раненного в ногу рыжеволосого мальчишку-снайпера, под дулом пистолета отказывающегося подчиниться приказу озверевшего на войне капитана — приказа стрелять в детей, стоящих в тупике узкого ущелья заградительной шеренгой перед трусливо прячущимися за их спинами бандитами. Я словно слышу истеричный крик сошедшего с ума командира: «Лисицын, сука ты драная, стреляй! Последний раз приказываю: огонь на поражение! Это не дети! Это звериное отродье, которое, не прикончи его сейчас, вырастет и будет убивать твоих детей». Я чувствую своим собственным сердцем ту ледяную корку боли и ненависти, что сковывает сердце паренька. Ту корку обжигающей наледи, которая вдруг с треском лопается, вызывая одним лишь эхом обрушение тяжеленных снежных козырьков, нависавших над расщелиной с крутых обрывов чёрных скал …
Дети остались живы. Остальные погибли. Все. И боевики, и свои. Гоша уцелел чудом — спасибо санитарам. Спасибо Игорь Иванычу, медсёстрам, да и мне немножечко. Нам спасибо. Да, мы попытались отогреть его не столь уколами и грелками, сколь обычным человеческим теплом. Но стоило ли это делать? Отогревать человека, который твёрдо решил замёрзнуть? Я не знаю.
Молчит и Гоша.
И вот ещё что мучает меня: правильно ли поступает человек, неся гибель самим смерть несущим? Речь не только о врагах, но и о своих, о тех, кто сражается на твоей стороне и с тобою ж делит пищу и кров. Во время войны. Ну, так как, правильно?
Не знаю я и этого.
Знаю только то, что видел собственными глазами тогда, почти двадцать лет назад: жить Гоша не хотел. И не собирался. Не приходя в сознание, он, тем не менее, погружал своё тело в пучину ледяного холода, исторгаемого собственной же душой. Он, терзаемый душевной болью, попросту убивал себя. И убил бы, кабы не мы. Будьте уверены. А так…
Впрочем, всё уже сказано. Вот только мысли…
11 июля
Мысли, мысли, мысли… Что делать с ними? Как их подчинить? Логика! Разум! Трезвый рассудок! Да, да, конечно… Не делай, не подумав. Семь раз отмерь… Абстрагируйся от…
Мысли!
Скажет мне кто-нибудь, почему вдруг я, всегда спокойный и уравновешенный, вижу порой, пусть только и на экране телевизора, проявление дикой нечеловеческой агрессии, но чувствую, как ладони мои начинают покрываться инеем? Ну? Кто?
Ты?
Ах, ты ж, зараза! Довольный-то! Наелся? Наелся, вижу. Радуешься, хвостом виляешь. Ладно, Лисицын, пойдём в парк. Справим походя твои естественные надобности… А мысли? Их бы так, да? Но, брат, увы, не получится.
А жаль…
Кратчайший путь в Арктику
Вот дед и умер.
Хоронили зимой, в не оттаявшую за короткое северное лето и наново, а потому ещё крепче промёрзшую землю. В минус тридцать по Цельсию. В общем, как, наверное, и положено хоронить заслуженного полярника.
Серёга деда любил очень. Хоть последние годы они практически и не виделись, но перезванивались постоянно. Да… жить на разных краях России — это вам не по левым-правым границам Бенилюкса какого-нибудь, Петропавловск от Архангельска, увы, не в часе полёта по гладкому, словно море в штиль, автобану…
Дед прожил долгую жизнь, интересную и насыщенную событиями. Почти полный век, шесть десятков лет из которого дрейфовал на льдинах, ходил на ледоколах и научных судах, изучая скудную фауну Заполярья. Редкие — в городе дед бывал нечасто — тягучие рассказы его, тогда ещё крепкого поморского старика, удивительно похожего на им же обожаемых Хемингуэя с его знаменитым персонажем, напоминали малолетнему Серёжке волшебные сказки. Истории о стылых скальных берегах, ледяных горах и сверкающих бескрайних равнинах, населённых пугливыми тюленями и склочными гагарами, ленивыми моржами и свирепыми белыми медведями-людоедами, о громадных китах, взламывающих льды своими толстокожими спинами, о весёлом и жизнерадостном человеке, которому всё нипочём — и лютая стужа, и безысходный мрак полярной ночи, и жуткие волны неласкового океана.
И вот деда не стало…
— Серёж, ты когда семью-то собираешься перевозить? — Они с мамой, держась, чтоб меньше скользить, как в детстве — за руки, шли с кладбища в самом хвосте редкой чёрной колонны, растянувшейся чуть не на километр.
— Если всё срастётся, то летом, мам, — ответил Сергей. — Ленке ж с Андрюхой надо учебный год закончить, да и у Натахи дальневосточный стаж капает. Это мне, пенсионеру, хорошо.
— Да уж, — даже не глядя на мать, он понял, что та улыбается, — кто бы мог подумать, что мой сын в сорок лет выйдет на пенсию? Чем заниматься-то решил?
Серёга остановился, стащил с рук вязаные варежки и, достав из кармана сигареты со спичками, закурил.
— Ну, дома уж точно сидеть не буду. На торговый пойду. Не возьмут капитаном, старпомом к Николаеву подпишусь. Он, кстати, предлагал уже.
— К Лёшке? — в голосе матери послышалось искреннее удивление. — Помощником к этому двоечнику?
— Мам, — Сергей, почувствовав, что та теряет равновесие, перехватил её за локоть, — мы с Лёхой друзья. И потом, люди ж меняются. Он когда двоечником-то был?
— Да ладно тебе, сын, шучу я, — отмахнулась мать. — Знаю я, что вы неразлей-вода, а Лёха твой — бравый кэп. Мы с его Таней недавно в очереди в сберкассу стояли, так она обмолвилась, что Николаев сейчас к Антарктиде под чужим флагом ходит. Под либертинским, что ли?
— Под либерийским, — поправил Сергей. — Мне-то какая разница, ма? Всё равно Лёха раньше июня в Архангельске не появится, у них сейчас горячка, навигация в полном разгаре. Мы неделю назад по скайпу трещали. Так что… ремонт, мам, ремонт, и ещё раз ремонт. Не повезу ж я семью в сарай.
— И то правильно, — они дошли до автобуса, остановились, — а мы с отцом тебе поможем. Ты не смотри, что старые, мы ещё…
— Какие ж вы у меня старые, ма?! — Серёга, обняв мать, прижал её к себе. — В возрасте, ма… Просто в возрасте…
Из кафе с поминок Серёга к родителям не пошёл, решив, что пора обживаться в своём новом доме. То есть, в незабытом ещё старом. Дед, добрая душа, оставил свою трёшку-сталинку в наследство любимому внуку.
Старенькая трёшка… Третий подъезд, третий этаж, номер тридцать три… Сплошные трояки. Как у Андрюхи, сволочонка этакого, в табеле. Надо б им вплотную заняться. В смысле, его воспитанием. Но… Но сначала — ремонт.
Закрыв за собой дверь — старую, филёнчатую, выкрашенную сто лет назад суриком, — Сергей переобулся в мохнатые меховые тапочки, дублёнку с шапкой бросил на протёртый до голой фанерной сути хромой от старости стул и прошёл в кухню.
Свет есть, газ есть, вода — и холодная, и горячая — тоже. Что ж, можно жить. Полы паркетные, дуб, такие на века. Достаточно отциклевать тоненько да лаком покрыть в пару-тройку слоёв. Ерунда. А вот с остальным придётся повозиться. Сантехника — дрянь. Под замену. Стены и потолки штукатурить надо. Кривые, словно пьяные черти равняли. Проводка… рабочая. Но её б тоже надо поменять — седьмой десяток дому, лучше подстраховаться, мало ли. Ну и обставляться, конечно, надо с нуля, не с Камчатки ж рухлядь везти. Нда-а… Мебель хреновая. Совковый постмодерн — рассыпается на запчасти, стоит к нему прикоснуться. Да и бытовую технику нужно. Плиту, стиралку, посудомойку, миксеры-бойлеры разные, микроволновки всякие — куда ж в двадцать первом веке без микроволновок?! Холодильник опять же…
Холодильник!
Забившийся в угол внушительной кухни старенький дедов «Полюс», — специально, что ли с таким названием выбирал, юморист хренов — гудел и трясся, словно буксир у причала. Рядом, лениво прислонившись к стене, стояла наполовину разложенная стеклопластиковая удочка с инерционной, как у спиннинга, катушкой. На леске, зацепленный за крючок повис желтоватый подсохший кубик свиного сала со шкуркой…
«Запомни, Серёга, — в голове громовыми раскатами вдруг зазвучал дедов бас, — кратчайший путь в Арктику лежит через…»
Серёге было лет четырнадцать, когда деда попросили на пенсию. Нет, не попросили, а натуральнейшим образом выперли. Сказали, мол, тебе Иваныч, уж за семьдесят, а ты всё во льды рвёшься. Имей совесть, дай дорогу молодым!
Дед тогда долго возмущался: «Чего я вам, танк поперёком дороги? Неуж я вашим молодым проходу не даю? Пущай двигают куда хотят. Но меня, братцы, не трожьте, а? Поймите ж вы, ребяты, Арктика для меня — и дом, и сама жизнь. Что мне в городе-то делать? Со старухами во дворец культуры на танцы бегать? По санаториям кататься? Да у меня здоровья на троих ваших бездорожных юнцов хватит. И сил ещё столько, что…»
Бабку Серёга не знал, та умерла ещё до его рождения. По-дурацки как-то. Жена полярника — и от воспаления лёгких. Летом. В Анапе.
Отцу ж в том самом году, когда деда на берег списали, квартиру новую дали, пришлось разъехаться — кто из нормальных людей от дополнительного жилья откажется? И остался дед совсем один. Сколько Сергей ни просил родителей не забирать его от деда со старой квартиры, те не позволили — ишь, чего выдумал, экзамены на носу, а они, два сапога — пара, всю успеваемость, с таким мучением заработанную, по рыбалкам профукают. Только волю вам дай.
Дед, впрочем, если и тосковал по любимой работе да по ставшему «выходным» внуку, печали своей никому не показывал. Устроился «вратарём» в автохозяйство, новым хобби обзавёлся — начал по самоучителям и схемам из журналов разную технику паять-собирать. Приёмники транзисторные, магнитофон катушечный, чтоб любимого Высоцкого слушать, даже компьютер смастерил, выпилив всю наружную облицовку из пятислойной фанеры, кнопки ж для клавиатуры вырезал из разделочной доски красного дерева. Правда, компьютер тот включился лишь раз, минуты через три задымился и благополучно сдох. Но корпус был… «Роллс-ройс», а не корпус! Лёха Николаев, когда с Серёгой к его деду однажды зашёл и это чудо увидел, неделю спать от зависти не мог. Кто ж ему, болезному, скажет, что агрегат-то нерабочий?
Серёга, почти безропотно уйдя с родителями на новую квартиру, таки выторговал себе нерушимое право на субботние ночлеги по старому месту жительства. Не без дедовой, конечно, помощи.
В одну из таких суббот дед и попался…
Дело в том, что Архангельск хоть город и портовый, но в Перестройку жил не лучше прочих советских полисов, имея в магазинах типа «Океан» рыбу трёх основных сортов: «хек замороженый с головой», «минтай-тушка потрошёный» и «мойва свежемороженая брусовая». Нет, иногда «выкидывали» на прилавки и треску, и селёдку пряного посола, и даже скумбрию холодного копчения. На рынке втридорога можно было взять палтуса или кижуча, но это только по великим праздникам. В сезон сами за ряпушкой ходили… А тут!
Серёга, естественно, как человек облечённый стопроцентным дедовым доверием, держал на кольце, привязанном цепочкой к ременной петле штанов, ключ от старой квартиры. Мало ли, дед куда выйдет — под дверью ждать его прикажете? Дудки, всё по-взрослому.
Вот и в ту достопамятную майскую субботу дед раненько позвонил им домой и сказал, чтоб Серёга по пути из школы забежал в аптеку, взял склянку «корвалола». Чегой-то сердце прихватило. Да, и чтоб не трезвонил, а своим ключом дверь открыл. Вдруг, мол, прилягу, засну.
Ну, Серёга — парень основательный и памятливый — сделал всё, как наказано. Дверь тихонечко отпер, разулся в прихожей и, оставив сумку на стуле, двинул на кухню провести рекогносцировку грядущего обеда. А там… холодильник открыт, в двух метрах от него дед стоит… с удочкой, а леска прямиком в морозилку уходит… У Серёги дыхание прервалось и челюсть отвисла.
Дед на него только зыркнул, да как зарычит:
— Ну, чего зенки вылупил?! Видишь, не справляюсь! Бегом к морозилке, за жабры её хватай, за жабры, чтоб не рыпалась! Боком поверни и тяни… Да не бойся ты, не съест…
Рыба, зажаренная в кляре, была чудо как хороша. Называлась диковинным именем «муксун» и жила какой-то час тому назад в… Гыданской губе у западного берега полуострова Явай…
«Запомни, Серёга, кратчайший путь в Арктику лежит через мой холодильник. Только никому не рассказывай. И розетку не меняй»…
Но секрета своего дед так и не раскрыл. Лишь крякал, стоило Серёге заикнуться, своё любимое: «меньше знаешь — крепче спишь». После этого, чтоб поднять почему-то испорченное враз настроение, наливал стопку клюквенной. Единственную. «За электричество». И косился на самодельную розетку над плинтусом.
Серёга смахнул пальцем выкатившуюся от воспоминаний слезу, поднялся с табурета, достал из навесного шкафчика панфурик коньяку, опорожнил его в рюмочку, опрокинул в глотку. Ничего не почувствовал. Повторил акт самоуничтожения со вторым мерзавчиком. Результат тот же.
Взгляд снова упал на старенький «Полюс», переставший грохотать и замерший в своём углу, словно белый медведь-недоросток перед прыжком. Дёрнулась и задрожала дедова удочка… Нет, наверное, показалось — просто веко дрогнуло, пытаясь выпустить ещё одну слезинку.
Серёга подошёл к холодильнику, открыл дверцу и глянул в пустую морозильную камеру.
Изнутри дохнуло таким ядрёным морозцем, на который советская промышленность была не способна в принципе. Дыхнуло Арктикой. Настоящей…
Наживка, полетевшая «куда-то туда», в полярную ночь, расцвеченную — Серёга мог побожиться — натуральным сиянием, вернулась через минуту облепленная снегом. Нет, не сезон. Муксуна захотел, дурашлёп! Серёга, презирая собственную недальновидность, хмыкнул. Да на Гыданской губе в это время года такой лёд, что ни одним буром не возьмёшь!.. Или буром всё-таки возьмёшь? А с ледорубом?
Решение проблемы пришло само собой…
Первый же агрегат, что бросился Серёге в глаза по приходу в магазин электроники и бытовой техники, оказался морозильной камерой. И не просто морозилкой, а знаковым «Полюсом». Правда, то был не наш родной «Полюс» златоустовского завода, а «Polus» импортный (или наш? Но зашифрованный латиницей по модному ныне порядку любви ко всему забугорному). Сколько-сколько тысяч? Однако, господа!
— Так это ж больше, чем на триста литров! — продавец, ряженый в униформу Деда Мороза, уловив заинтересованность в Серёгиных глазах, взялся за работу рьяно: — Три года гарантии, это раз. Производство — Австралия, два. В комплекте идёт набор контейнеров для заморозки, три. Можем кредит оформить, скидочку организовать…
— А доставка? — Сергей понял, что без «Polus»’a он из магазина сегодня точно не уйдёт.
— Бесплатная! До места установки. В любое время, — словно из воздуха соткавшаяся «снегурочка» похлопала агрегат ладошкой и подвела итог: — Классная машина. Как расплачиваться будете?
— Громко. С выражением, — ухмыльнулся Серёга. — Сейчас только в мебельный сбегаю. За табуреткой.
«…и розетку не меняй…»
— Да, а переходник с евровилки на розетку советского стандарта у вас есть?
Бур нашёлся в кладовке, ледоруб тоже. Старые дедовские унты оказались в размер. Тулуп, ватные штаны тоже. Только свитер под горло моль поела, да ушанка оказалась чуток маловата. Но для первого раза, решил Серёга, сойдёт и так.
В рыбацкий короб, обтянутый полуистёршимся камысом, аккуратно легли кубики сала, буханка белого хлеба, кольцо «краковской», термос с чаем, поллитра, завёрнутая в полотенце, зелёное яблоко, сигареты, спички, пара зимних удочек, банка с мормышками и блёснами, моток лески, а также, на всякий пожарный, паспорт, заметно истончившаяся пачка банкнот и две пары шерстяных носков. Кто его знает, что там, в этой Арктике, может приключиться? И потом, не дай Бог, в Архангельске электричество вырубят. Придёт тогда муксун карачунович. Или песец какой хитрый незаметно подберётся.
Трижды прочитав «Отче наш», Серёга перекрестился на образа в кухонном красном углу, натянул оленьи рукавицы, повесил на плечо короб, взял в руку связанные нейлоновым шнуром бур с ледорубом, распахнул дверцу трёхсотлитрового «Polus»’а и, закрыв глаза, резко шагнул внутрь…
Когда глаза попривыкли к нестерпимо яркому солнечному свету, он увидел в полукилометре от себя пришвартованный к причалу внушительных габаритов сухогруз.
Что за хрень, мать вашу? А где же полярная ночь?
Серёга, подперев буром дверь морозилки, чтоб та ненароком не захлопнулась, ну и для ориентиру — алая ручка коловорота резко выделялась на белоснежном фоне пейзажа, — в сердцах помянул ни в чём не повинного деда. Потом, поправив на плече ремень короба и жалея, что не сообразил купить солнцезащитных очков, двинул в сторону пристани, возле которой у штабелей ящиков копошилось десятка полтора-два работяг в ярко-оранжевых одеждах. Шагов через триста до слуха донёсся привычный уху крик:
— Капитан, твою за душу! Я те чё, нах, кран башенный, чтоб эту бандуру в одиночку тягать?!
— А чё, нах, не башенный?! — раздалось в ответ бодрое. — Не кипешуй, Семёнов, ща те напарника подберём! Эй, морские, а Сушенцов у нас где?!
Тембр показался Сергею смутно знакомым.
Когда до мужиков оставалось с десятка три шагов, тот же голос, что призывал пару минут назад Семёнова к спокойствию, исходящий от бородатого здоровяка в мохнатом волчьем треухе, загремел вновь, обращаясь теперь к нему. К Серёге.
— Эй! Ты, ты, мужик. Здоров! С «Молодёжной» топаешь? А чё без вездехода? Без лыж даже. Ну, ты, в натуре, герой…
Нет, в этом Серёга не мог ошибиться. Голос принадлежал Николаеву. Лёхе, тому самому бывшему двоечнику и, одновременно, лучшему с детства другу, что сейчас ходил капитаном на сухогрузе под либерийским флагом из ЮАР в Антарктиду…
Стоп. В Антарктиду?!
Да, ошибочка крылась вовсе не в человеческом факторе.
Твою ж рыбалку!
В голове зазвучал голос давешнего «дедмороза»: «…производство — Австралия».
«Polus» гадский… Гадский полюс!
Вот тебе и кратчайший путь в Арктику. Нда…
— Привет, Лёха. Я, брат, ни с какой не с «Молодёжной»… Из дому топаю. Прямиком из Архангельска.
Николаев, неуклюже взмахнув руками, спрыгнул с ящика и, не удержавшись на ногах, плюхнулся задом в сугроб.
— Серый???
— Серый, Серый, — остановился Серёга и, поставив короб на снег, с широченной улыбкой протянул другу руку.
Откуда-то слева, из-за низенькой ледяной горки вышел вразвалочку, помахивая нелепыми крылышками, крупный пингвин. Гладкий, толстый и гламурно-блестящий — чем-то неуловимо похожий на певца Сергея Крылова. Он посмотрел на мужиков, потешно топнул ножкой-ластом и забубнил глумливым пересмешником:
— Керый-керый… керый-керый…
Слансарга
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O R E R A
R O T A S
Второе лето подряд, когда хотелось побыть в одиночестве — не в относительном, как в городской квартире, где постоянно то долбят за стеной очередные евроремонтники, то звонят в домофон разносчики рекламной заразы, а в полном, в абсолютном, — Глеб отправлялся на вокзал, оставлял машину на парковке, садился в ближайшую электричку и ехал до платформы «Слансаргá». Именно там — стоило спуститься с перрона по восьми щербатым бетонным ступенькам и пройти еле заметной тропинкой метров тридцать до мрачного ельника — заканчивалась человеческая цивилизация.
Сколько раз бывал, Глеб ни разу не видел здесь ни людей, ни даже следов гуманитарной катастрофы — ни кострища, ни пустой бутылки, ни рваного пакета, набитого объедками и консервными банками, ни даже затоптанного окурка. Словно тут вообще никто и никогда не появлялся. Однако сам факт наличия тропы, ведущей, впрочем, непонятно куда — Глеб обычно углублялся в чащу километра на два-три, — свидетельствовал об обратном. Может, там, дальше, есть чьи-то дачи? Или озеро? С другой стороны, какая разница? Если воздух чист и тишина, тишина, тишина… Такая, что даже птиц почти не слышно.
Стоило запрыгнуть в последний вагон, электричка предупредительно свистнула и, захлопнув изрисованные одарёнными подростками двери, заскользила прочь от наполненного выхлопами эмоций мегаполиса. Глеб уселся на крайнюю скамейку полупустого вагона, прислонил голову к холодному стеклу и сомкнул веки. Час. До пункта назначения со всеми остановками ехать ровно час…
С Колей они выросли в одном дворе. Вместе ходили в детский сад, потом, после выпуска, оказались в одном классе. Десять лет за соседними партами. Вместе гуляли, вместе ходили в авиамодельный и на футбол. Позже, когда подросли, вместе обхаживали Любу Синягину и вместе получили от ворот поворот. То есть, не вместе, конечно, а каждый по отдельности, но сути это не меняет. Люба, окончив школу, практически сразу выскочила замуж за какого-то жирного боша, с которым познакомилась через одну из многочисленных тогда своднических контор, и укатила на пээмжэ то ли в Нюрнберг, то ли в Гамбург. В какой-то бург, короче. Не важно. Там до сих пор и живёт — стала такой же толстой, как её колбасник. И пацанов растит жирненьких и румяных. Не семейка, а полный октоберфест. Да и чёрт бы с ними — с фрау экс-Синягиной и обитателями её фамильного хлева.
Николай…
Шустрый Колян, придя из армии, в институт решил не поступать. Замутил с синягинским мужем совместное предприятие по доставке в Россию из Дойчланда подержанных иномарок. И не прогадал. Пока Глеб просиживал последние штаны в аудиториях и библиотеках, сколотил весьма неплохое состояние. Ходил этаким бесстрашно-безупрёчным рыцарем, закованным в малиновые доспехи, скреплённые под шеей золотой цепью толщиной в сложившиеся обстоятельства. Да ещё и потешался над менее удачливыми приятелями. Глеба, правда, не гноил. Наоборот, звал его — свежеиспечённого молодого специалиста — к себе, управляющим в автосалон, обещал приличную зарплату. Да тот, птица гордая, отказался, устроился экономистом на какую-то полудохлую фабрику. С ежеквартальной зарплатой, равной полупрожиточному минимуму.
Нет, потом-то всё, естественно, наладилось…
Ну, вот и она — точка отсчёта шагов.
Чернёный креозотом и солнцем покосившийся деревянный столб. Прибитая к нему двумя гвоздями ржавеющая серо-зелёная вывеска. «С..ансар..а». Литеры «л» и «г» давно отвалились, но по оставленному грязному следу легко угадываются. Этакая нечаянная метафизика. Смешно? Пожалуй. Ни кассовой будки, ни перил. Щели между бетонными плитами такие, что можно кулак просунуть. Или оступиться, коль засмотришься на дикую и почти никем не востребованную красоту. Или, если о чём-то крепко задумаешься…
— Твоють! — Глеб и оступился, погружённый в мысли. Чуть не упал…
Да, потом всё наладилось.
Не проработав на фабрике и года, понял, что это не его. Ушёл в свободное плаванье. То есть, в свободную бухгалтерию. Взял под крыло с десяток предпринимателей, которым сперва помогал составлять отчёты, потом, поднабравшись и наблатыкавшись, и от хамских госпоборов уходить. В общем, зажил. Не то чтоб в необузданной роскоши, но более чем неплохо.
С Коляном виделся теперь только по датам — днюхи, новогодья, шашлымайские выезды, ещё что-то. Да оно и понятно — работа, личные обстоятельства. И у того, и у другого. Глеб, раскрутившись, открыл аудиторскую фирму. Николай, развернувшись, послал куда подальше жадного и, прямо скажем, не семи пядей во лбу Любиного боша. Переключился на новьё. Случайно задружившись на каком-то званом мэрском банкете с деловаристыми японцами, стал официальным то ли трейдером, то ли дилером. Салонов понаоткрывал штук десять — «мазды», «ниссаны», «тойоты», прочее, прочее, прочее. Плюс — сервисные станции, сеть магазинов запчастей. В олигархи? Нет, не целил. Смеялся: «само так получилось». Но остался человеком. Хоть и не без понтов, но не злым и вполне отзывчивым, что в среде крупного бизнеса всё-таки нонсенс.
Да и Глеб полностью не оцифровался. Аудит аудитом, однако жизнь-то продолжается. Женился. Развёлся. Спустя пять лет снова женился. И снова… Нет, пока до развода дело не дошло, но грань… Ох уж эта грань…
За четвёртым поворотом взору ожидаемо открывалась небольшая поляна, посреди которой рос дуб. Неожиданный, светлый и словно декоративно-бутафорский в иззелена-чёрном хвойном лесу. Настолько толстый, высокий и величественный, что друзья прозвали его Лукоморским. Подвыпивший Колян даже голду со своей тонкой шеи порывался на него перевесить. Чтоб «в натуре, как в сказке».
Да-да! Слансаргу Глебу открыл именно Николай.
То случилось чуть больше года назад. В начале июня. В субботу.
Глеб, отправив супругу в очередной круиз, валялся в постели перед телевизором, бубнящим кулинарными затейниками. Откровенно кайфовал, пуская струйки сигаретного дыма в жидкокристаллическое, безобразно-округлённое широкоформатной настройкой, лицо младшего Урганта. В гости до обеда никого, естественно, не ждал. Оттого электрический зов не отключённого по рассеянности домофона стал неприятным сюрпризом. Гудке на десятом, когда настроение, — не говоря уж о сломанном кайфе, — было окончательно испорчено, Глеб, припомнив весь свой словарно-обсценный запас, выкатился из-под одеяла и решительно-яростно потопал в прихожую. Однако, увидев в дисплее улыбающуюся физиономию лучшего друга, поостыл. Почти.
Он прекрасно помнил, как тогда, превозмогая дикое «не хочу», садился в вонючую электричку. Если б не коньяк, предусмотрительно купленный Колей в привокзальном магазинчике, та поездка закончилась бы на следующей же станции.
Да. К платформе «Слансарга» автомобилем было не добраться. Дорог, кроме железной, туда проложить не удосужились. Впрочем, а зачем? Если б та самая загадочная Слансарга — село ли, деревня или хотя б выселок, — была привязана к одноимённому полустанку, другое дело. А так…
— Ну и что, что приснилось… Ты понимаешь, дружище, — говорил Николай, отхлёбывая «Арарат» прямо из горлышка, — это интуиция. Знаю, вот ты сейчас смотришь на меня и считаешь законченным придурком… Да я и сам…
Коля отвернулся в окно, за которым мелькали столбы и деревья. Умолк на полуслове.
— Ладно тебе, брат, — отмахнулся Глеб. — Приснилось и приснилось. Слансарга, говоришь? Интересное название… А, плевать с высокой колокольни! Главное — не слишком далеко. Прокатимся на природу. Вдвоём сто лет никуда не выбирались. Помнишь, как в шестом классе из дому в Чернобыль решили сбежать? С радиацией бороться?
Друзья от души расхохотались. Выпили. Наконец-то отпустило.
— Эх, если б не Синягина, лежать бы нам с тобой теперь под свинцовыми одеялами, — отсмеявшись, проговорил Николай.
— А при чём тут Любка? — поднял брови Глеб.
— Здрасьте, приехали! — Коля хлопнул себя ладонями по коленям. — Это ж она нас сдала!
Глеб склонил голову на плечо и пристально посмотрел другу в глаза.
— А ей, значит, ты растрепал. Так?
— Ну, я… Очки зарабатывал, — печально улыбнувшись, вздохнул Глеб и снова уставился в окно…
Сюда, на платформу «Слансарга», вдвоём они приезжали ещё только раз. Спустя неделю. Но тогда погода — весь день лило, как из ведра — насладиться природой не дала. Только вымокли и продрогли. Потом, уже по возвращении в город, сидели чуть не до полуночи у Коли, смотрели под пиво какой-то тухлый матч нашей сборной. Не дождавшись окончания, распрощались, вызвали Глебу такси. И…
И с тех пор не виделись. Николай исчез…
Вот так вот взял и пропал. Как сквозь землю провалился. Если б счета обнулил, можно было б заподозрить в бегстве за бугор — фискалы последние полгода доставали его не по-детски, каждый месяц проверки устраивали, словно кто-то настучал, накляузничал, решил разорить. Может, конкуренты, может, доброжелатели, которых во все времена хватало. А, может, просто так срослось. Пути ж неисповедимы, давно доказано…
За дубом тропа немного расширялась, но идти по ней становилось труднее. Мохнатые колючие ветки склонялись довольно низко, потому высокий Глеб вынужден был постоянно двигаться согнувшись. Или работать руками, освобождая себе пространство. Вот только это не выход — исколотые руки начинали саднеть быстрее, чем спина и шея. Впрочем, пытка продолжалась не слишком долго — минут десять. До оврага. Дальше Глеб и не ходил.
Лог, широкий и глубокий, с отвесными, вечно осыпающимися краями, для какого-нибудь экстремала препятствием, конечно, не был. Но человеку, выбравшемуся в лес «для погулять и расслабиться», желания топать дальше не прибавлял. Вот и Глеб, дойдя до сюда, обычно садился на край, ставил ноги на торчащий из песка валун и «зависал» в воспоминаниях.
Однако сегодня всё было по-другому. Природа природой, но появилась конкретная цель, достичь которой следовало во что бы то ни стало. Или сгинуть. Так уж и сгинуть? Хм…
Памятуя о твёрдом своём намерении дойти до конца тропы, Глеб, подняв по пути длинную палку и попробовав её на прочность, решительно продвигался вперёд. Остановившись перед обрывом лишь на секунду, он упёрся импровизированным посохом в песок и спрыгнул на камень…
— Помолчи, хорошо? Ты ж не в курсе всех нюансов, — говорил Николай, сидя под дубом. — Да и дело прошлое, Глебка. Не любил ты её. Так, со мной соперничал. Несерьёзно, дружище.
— Ты-то откуда знаешь?! — вспылил Глеб.
— Доподлинно не знаю, конечно, — пожал плечами Коля. — Но догадываюсь. Стоило Любе укатить в Германию, ты через неделю Ольку завёл. Потом Лену. А я…
Глеб с интересом посмотрел на друга. Странно было видеть его таким сентиментальным. Коньяк? Нет, тут что-то другое. Спиртное Николая никогда размазнёй не делало. Наоборот. Стоило чуток перебрать, и Колян становился агрессивным, даже жестоким. Мог гадостей наговорить, а порой, когда совсем срывало, и руки распускал. На следующий день, правда, долго и искренне вымаливал прощения, чуть не в ногах валялся. А тут — на тебе!
— Так ты до сих пор по ней сохнешь? — до Глеба наконец-то дошло. — Потому и не женился? Потому и с Клаусом её бизнес мутил, да? А я-то, дурак! Слушай, Коляныч, ты её давно видел? Корова ж старая. С твоими-то бабками можно и…
— Сам ты — корова. Просто располнела чуток. Ну, так за сорок уже, да и дети… Я ж говорю — не любил, — Николай поднял с земли бутылку, посмотрел сквозь неё на солнце, потряс, но пить не стал, протянул другу. — Не лезет, Глебка, прости. Сам-то лопай, если хочешь, на меня не смотри.
Глеб молча взял бутылку, но пить тоже не стал. Заткнул и бросил на траву. Нутром почувствовал, что до самого важного Николай ещё не добрался. А «самое важное» лучше осмысливать на трезвую голову. Ну, на совсем трезвую уже не получится. Однако, хватит.
— Так вот… Приснилось мне сегодня, что если я хочу всё развернуть, то должен ехать до платформы «Слансарга», идти в лес, а там…
Николай вдруг умолк.
— Что «а там»? Ну? — подбодрил его Глеб.
— Да хрен его знает, — Коля, опираясь спиной о дерево, поднялся на ноги. Улыбнувшись, пожал плечами. — Проснулся.
Он отошёл шагов на десять и задрал голову вверх.
— Серьёзное дерево, — произнёс после паузы. — Лукоморское. Только цепи на нём не хватает со всеми сопутствующими. Русалка там, кот, богатыри — все дела. Слушай, мож, мою повесим?
Он уже потянулся к застёжке, но поднявшийся следом за другом Глеб покачал головой.
— Не-а, не катит. Не тот размерчик.
— Вижу, что не тот, — отмахнулся Коля. — Ладно, чё делать будем? Дальше пойдём или…
Пробрались до оврага. Постояли там молча минуты три и вернулись к железке.
Ничего не произошло.
Чуйка обманула? Бывает…
На той стороне оврага тропа стала еле заметной, хоть лес и не изменился. Всё тот же ельник. Только, кажется, ещё более густой. Хотя… Может, сказывалась усталость?
Так далеко Глеб ещё не забирался. Мелькнула мысль — не стоит ли вернуться? Цель? Глупости. Нафантазировал себе невесть что. Нет там дальше ничего. А тропинка? Кто сказал, что тропы оставляют только люди? Вдруг тут звери ходят. Кабаны. Медведи. Те же лоси, к примеру… Какие, к чёрту, лоси?! В таком тесном пространстве разве что собака почувствует себя более-менее комфортно. Собака или…
Нет, про волков он где-то слышал, что те на человека первыми не нападают. Во всяком случае, летом, когда харчи — не первая проблема. Или… Рука сама потянулась к карману, где лежал захваченный на всякий пожарный травматический пистолет. И тут же успокоился.
Всё. Будет. Нормально.
Словно в ответ на мысли впереди забрезжил свет. Поляна? Похоже на то…
Точно. Поляна. А посреди неё…
Ну вот. Плутал, плутал, а вышел обратно. К Лукоморскому. Он? Вне всяких сомнений. Вон и знакомая «Гренландия» — причудливой формы голыш на месте отвалившейся коры. Нда…
Присев под дубом, Глеб достал из нагрудного кармана плоскую фляжечку, отвернул крышку и сделал пару глотков. Коньяк… Странно. «Хеннесси», а вкус как у дрянного «Самтреста». Всё палят, суки. Да и хрен на них, сволочей.
Коньяк, разлившись за какую-то минуту по телу, разогнал кровь. Усталость, конечно, чувствовалась, но была не критичной.
— Ладно, Колян, — сказал в пустоту Глеб, — видит Бог, я попытался. Прости, дружище, не получилось. Жаль, брат, но тут уж ничего не поделаешь.
Что оставалось? Лишь одно. Топать обратно, на станцию. Глеб посмотрел на часы — до ближайшей электрички времени в обрез — двадцать семь минут. Можно, конечно, дождаться следующей, но это долго. Почти два часа. Лучше поторопиться. Что тут столько времени делать? Да и перекусить совсем бы не помешало.
После допинга — коньяка — ноги понесли быстрее. Первый поворот. Второй. Третий.
Миновав последний — четвёртый — Глеб, словно оглоушенный невидимой дубинкой, вдруг встал посреди дороги. Как же так?
Заподозрив неладное, пусть и с опозданием, он снова полез в карман за фляжкой и, вытащив её, не смог поверить глазам. Вместо серебряного «Фердинанда Порше» в руке лежала этого же объёма, но стальная самоделка. Точно такую отец, помнится, спаял на заводе и вынес через проходную в голенище сапога. Глеб получил её в подарок на шестнадцатилетие. Вместе с кожаной обложкой для паспорта. И первой жидкостью, что налил туда, отправляясь с классом в поход, был вовсе не мамин морс, а тот самый…
Отвернув пробку, принюхался. «Хеннесси»? Как бы ни так. «Самтрест». Эти вкус с запахом ни с чем не перепутать. Нда…
Пряча фляжку обратно, мельком глянул на часы. По прикидкам время до электрички ещё было, но лучше удостовериться, что… Что???
Строгая, без изысков, но элегантная в хромированном корпусе «Омега», подаренная коллегами, непонятным образом исчезла. С запястья начищенным медным пятаком бессовестно сверкал приснопамятный минский «Луч», доставшийся в наследство от почившего деда. Те самые первые часы, которые Глеб носил с двенадцати лет аж до окончания института. И глубокий шрам, оставленный меж большим и указательным пальцами сверлом соскочившей дрели, исчез. Да и сама кожа…
Дела-а…
— Так ты мне расскажешь, наконец, что за сон-то приснился? В деталях?
— А надо? — Николай, допив остатки коньяка, поставил бутылку под лавочку.
Вагон электрички, которой друзья возвращались в город, был пуст, если не считать одинокой женщины, сидящей в другом конце к ним спиной.
— Суть ты изложил, — ответил Глеб. — Но должно ж в нём быть что-то такое, благодаря чему ты понял, что он вещий. Интуиция интуицией, вот только не на пустом же месте…
— Тсс, Глебка! Подожди, соберусь с мыслями, — тормознул его Коля, но тут же смолк. Заговорил после долгой паузы. Но сбивчиво, как будто в сильном волнении: — Ага… На этой платформе — на лавочке — Люба сидела. Не такая, как сейчас, а молодая ещё, незамужняя. И всё было так отчётливо… Поезд стоял. «Куйбышев — Санкт-Петер…» Черт! Не было ж тогда никаких бургов. Не было ведь? Ни на Неве, ни на Среднем Урале. Помнишь, как ты сам в Свердловск после школы собирался? В горный хотел поступать, чтоб геологом… Ну? Помнишь?
— Ага, забудешь такое, — усмехнулся Глеб. — Детские мечты, чтоб их. Заноза в зад… Ладно, дальше рассказывай.
— А что дальше? — пожал плечами Николай. — Ты на Урал собирался. Вот и мы, значит… Ленинградом грезили. Реально. До мурашек. Я в железнодорожный идти намеревался, Любаня — в универ, на философский… Чёрт! Разбередил только!
— Да, Колян, это уж точно, — вздохнул Глеб. — Разбередил. Но прикол-то в другом: спустя столько лет я слышу от тебя одну новость за другой. А ещё брат, называется… Погоди, а чего, если у вас такая любовь была, вы разбежались? Жили б себе, детей растили. Коль из-за меня, то зря. Ты прав, Синягину я не любил. Так, с тобою соперничал. И вот ещё что не пойму: если победил, почему не похвастал? Неужели не хотелось меня уделать?
Николай поднял голову. Посмотрел на Глеба. Оскалился, обнажив пожелтевшие зубы.
— Ещё как хотелось! Но Любка, дура, взяла с меня слово. Сказала, что не желает, чтобы из-за неё ссорились друзья. Эх… Да что они понимают в мужской дружбе?!
Глеб улыбнулся в ответ.
— А ведь ты знаешь, она была права, — произнёс он. — Это сейчас мы повзрослели, а тогда…
— Что? Ты мог бы со мной разосраться из-за бабы?!
— Сейчас — нет, а тогда, в юности… Вполне. А ты б не мог?
Помолчали. Первым заговорил Глеб.
— Так вот, сон твой… Люба была, поезд стоял. Куйбышев — Ленинград, говоришь? Нет тут ничего вещего, Колян. Успокойся. Просто подсознание играет с тобой воспоминаниями.
— А Слансарга? — тихо спросил Николай.
— Что — Слансарга?
— Ты про неё когда-нибудь слышал?
— Тоже мне! — фыркнул Глеб. — Ну, не слышал. Что с того? Я должен, по-твоему, знать все станции на всех направлениях?
— Так я тоже не слышал, Глебка! — воскликнул Коля. — До сегодняшнего дня не догадывался даже о наличии таковой. Её нет ни в одном расписании, понимаешь? Но она в реале, сам же видел. Видел?
— Видел, — кивнул Глеб. — Но ты меня всё равно не убедил. Наверное, в твоём сне было что-то такое, чего ты мне не хочешь говорить. Жаль… Может, я б подсказал…
— Да не было там больше ничего, — отмахнулся Николай. — Говорю ж, сидела на лавочке Люба. Меня ждала. Я подошёл, мы забрались в вагон и поехали.
— Ага, прямо так, без билетов. В Куйбышев? Или таки в Ленинград? — усмехнулся Глеб и отвернулся в окно.
— Сон ведь, — устало вздохнул Николай. — Там билеты не обязательны. Несущественная деталь… В Ленинград, рассказал же.
— Что?
— В Ленинград, говорю, поехали… Ладно, забудь. Эх, дружище… Я — подонок… Она меня не винит, давно остыла. Так говорит, во всяком случае. Вот только сам я… Да, брат, простить себе не могу… Она ж от меня залетела, ребёнка ждала, а я испугался, в военкомат рванул. Думал, что за два года ситуация как-нибудь разрулится. На её письма не отвечал… Представляешь? Ох, дурак! В натуре… Вернуть бы всё…
Со стороны платформы из-за поредевших деревьев раздался гудок. Но не высокий, отрывистый, каким предупреждают о прибытии электрички, а низкий. Густой и протяжный. Поезд?
Глеб в несколько прыжков достиг опушки и… встал как вкопанный. Состав, поскрипывая тормозами, замедлял движение. Зелёные ребристые борта вагонов украшала голубая лента трафаретных букв: «ГОРЬКИЙ — СВЕРДЛОВСК»…
Откуда только силы вернулись?
Глеб, бросив посох, стремглав нёсся обратно. Пару раз запнулся о корни, торчащие из земли. Упал, порвал штаны на коленке. Миновал дуб. Притормозил только возле оврага. Любопытство пересилило. Взглянул на часы — без десяти пять. Ага! Снова «Омега», пусть и с надписью «Луч». Но это — пока. Ненадолго. Фляжка? Ещё не серебряная, но уже «Фердинанд Порше». И пойло не пахнет бурдой. Почти…
Есть! Есть противоядие! Стоит перебраться на «нормальную» сторону…
Перебраться… А стоит ли?
Глеб, приводя дыхание в порядок, задумался.
Боже, это же такой шанс… Вернуться на четверть века назад, попытаться всё исправить…
Что?
Что исправить?!
Всё.
Что «всё»? Нет, ты скажи! Признайся себе.
Всё ж и так нормально… Почти… Да нет, «почти» — это мелочи.
Нор-маль-но!
Однако искушение было велико. Глеб даже отошёл от обрыва. Развернулся. Поднёс к уху ладонь, словно пытался расслышать неведомого подсказчика. Но всё окутала такая плотная тишина, в которой не было места даже птичьим трелям…
Нет. Незачем.
Пора возвращаться домой…
Глеб, чтобы ничего не готовить, купил по пути горячую пиццу, но — вот досада — коробку уронил в лифте. Пока был в душе, ужин успел остыть и превратиться в какое-то сопливое месиво. Неаппетитно. А, плевать!
Кухонный телевизор работал фоном. Шли вечерние новости.
Ведущая восторженно говорила про новый супер-пупер завод, построенный где-то в окрестностях Петербурга. Мощности, бла-бла-бла, инвестиции, бла-бла-бла, инновации, бла-бла, новые рабочие места, бла-бла, слово директору, бла…
На столе зачирикал уляпаный жиром телефон. Глеб кинул взгляд на дисплей — номер незнакомый. И, судя по код-префиксу, не местный. Кому это он понадобился субботним вечером?
Отключив пультом звук телевизора, он протёр трубку рукавом халата, и, коснувшись иконки «ответить», поднёс аппарат к уху.
— Алло?
Тем временем экран ящика расцвёл знакомой физиономией… Что?!
— Здоров, дружище, — раздался из трубки подзабытый за год голос. — Извини, что так долго молчал. Реально зашивался. Заводец строил. Только вчера открыли. Новости не смотрел? Включи, как раз сейчас…
С экрана, беззвучно раскрывая рот, что-то вещал, как гласила подпись, «директор завода». Николай Арепо.
— Коля?
— Коля, Коля, — раздалось из трубки. — Я чего звоню-то. У нас с Любашей на следующей неделе серебряная свадьба. Надеюсь, будешь?
— Какая свадьба? С кем? — Глеб не верил собственному слуху.
— С кем серебряная свадьба бывает, Глеб? Не тупи. Уже четвертак разменяем, прикинь. Ну? Чего молчишь?
Николай с экрана исчез. Теперь показывали какого-то лысого толстяка в очках. Должно быть, очередного эксперта.
Глеб прикрыл веки и помотал головой. И в ту же секунду услышал из телефона:
— Глебка, твоють! Ты куда пропадаешь? Да что такое с этой чёртовой связью?!
— Я это… — Глеб прокашлялся, попытался взять себя в руки. — Только из-за города прикатил. Подустал малёха. В Слансарге был. Тебе… Тебе название ни о чём не говорит?
— А о чём оно должно мне сказать? — голос друга звучал непосредственно. И вполне искренне.
Неужели он… Он не помнит? Но… как же? Как?!
— Да так, — улыбнулся Глеб своим мыслям.
На автомате кинул быстрый взгляд за межкомнатную арку, в гостиную. Усмехнувшись, подмигнул подсвеченному изнутри зеркальному шкафу с коллекцией минералов. Потом встал из-за стола, не спеша приблизился к окну. Стемнело. Город зажигал фонари и рекламу. Громада нового кино-мультиплекса оставалась пока чёрной. Что они, вывеску включить не могут? Мало того, что название дали идиотское — «USATORI» — японское какое-то… японаматьское, так ещё и…
— Глебка! Да что с тобой сегодня? — в голосе друга звякнула нотка обеспокоенности. — Может, мне попозже перезвонить?
— Не, не надо, — опомнился Глеб. — Когда, говоришь, отмечать будете?
— В субботу. В «Гранд-паласе» на Мойке. Но если ты забьёшь на работу и приедешь в четверг, то в пятницу мы с тобой хапнем мясца, коньячка и махнём на природец. Шашлычок заварганим. Вдвоём, а? На электричке. Ну как, брат, заманчивое предложение?
— Заманчивое? Не то слово, Колян! — ответил Глеб и чуть не рассмеялся.
Наконец, лампы за окном проморгались, и гигантские буквы на крыше кинотеатра вспыхнули огненно-красным, выстрелив в мрачное досель небо торжественным салютом.
Вот только «U» через пару секунд потухла.
А «I» вообще не зажглась.
Авторская страница Алексея Баева на АВТОР.TODAY