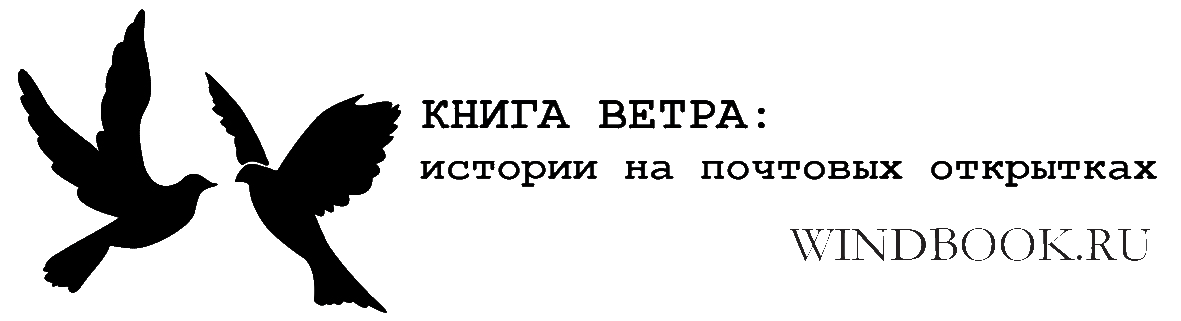Тощий Якоб
(мистическая зарисовка)
«Человек – мал, а дом его – мир»
Марк Теренций
 Я лежу на холодном полу, раскинув руки в стороны, как морская звезда. Толстые влажные каменные квадраты подо мной плотно держат мой тонкий позвоночник, словно скрипичную деку. Отражаются болью. Мои пальцы касаются стен, по которым сбегают капли, причудливо ломая свою совершенную траекторию о шероховатость плит, припудренных малахитово-серым мшистым велюром. Мои ступни упираются в ледяную решётку единственного окна-амбразуры, льющего скупой дневной свет сквозь пелену привычного тумана. Белый день цвета сыворотки.
Я лежу на холодном полу, раскинув руки в стороны, как морская звезда. Толстые влажные каменные квадраты подо мной плотно держат мой тонкий позвоночник, словно скрипичную деку. Отражаются болью. Мои пальцы касаются стен, по которым сбегают капли, причудливо ломая свою совершенную траекторию о шероховатость плит, припудренных малахитово-серым мшистым велюром. Мои ступни упираются в ледяную решётку единственного окна-амбразуры, льющего скупой дневной свет сквозь пелену привычного тумана. Белый день цвета сыворотки.
Это единственное положение, в котором я не вижу моря. Иногда его видеть невыносимо.
Мой дом – маяк. Старый маяк, построенный шведами в эпоху побед и триумфов на вечно мёрзлой саамской земле. Высотой в шестьдесят пять футов, каким был при рождении, сегодня осел он в зыбкий прибрежный песок и ледяную воду на добрую осьмушку, разбросал камни фундамента и как-то кряжисто опёрся на сваи, словно приготовился к прыжку. Узкий, худющий, торчащий из воды, как прокопчённая церковная свечка, с крохотным круговым балконом на самом верху, придающим ему издалека вид одинокого визитёра в дорожной шляпе. Морской привратник, наречённый моряками Тощим Якобом.
Когда завывает норд-ост, я хожу вниз и вверх по старой лестнице, жалея, что не могут каменные ступени скрипеть, как дерево. Это придало бы свисту ветра особое изысканное звучание. Когда-то у подножья Тощего Якоба был насыпной мол, и в дряную погоду пела невесть каким образом прижившаяся северная сосна, ласкаясь к балкам, словно кошка. Брала высокие ноты и ни разу не сфальшивила. Но лет пятнадцать назад голодное море поглотило и мол, и сосну, и тихое её чистое пение. Нет больше суши, всё вокруг – вода. Только с востока рисуется тонюсенькой карандашной чёрточкой сизая линия берега. Отступает суша, меняется прибрежный ландшафт. Со времён изобретения географических карт не устареет и не обесценится профессия картографа.
Дом мой, исчезающий в ненасытной Балтике Тощий Якоб! Последнее моё мятежное прибежище! Моя постель и мой каменный склеп. Уместно ли сравнить тебя с душой этого серебристо-цинкового залива, с единственной живой материей на многие мили вокруг? Сколько долгих лет ты давал мне спасительный, но не спасающий приют! Смогу ли я когда-либо отблагодарить тебя за твоё мрачное гостеприимство?
Верещат вездесущие тонконогие чайки и ноют желтоклювые гаги с протяжным оттягиванием гласных. Ведут ленивую перебранку бакланы, кружат над шляпой Тощего Якоба, помечая её перламутрово-белыми мазками. Плачет птичий народ, и вслушивается в тот плач Тощий Якоб уже почти три века. Ставили его свейские каменщики на заре тревожного времени Северной войны близ ингермандландской прибрежной косы, да не чаяли, что скоро эта зыбкая кромка берега станет русской. За триста суетных лет Тощий Якоб исправно мигал факельным глазом кораблям и со шведским, и с русским флагом, укрывал от бури чухонских и ижорских рыбаков, беглых каторжников, революционных идейных утопистов, снайперов, случайных пришлых людей с колючей серой тайной в глазах. Я среди их числа. Я – тот, кто шагнул на влажный бастионный камень первой ступеньки маяка всего лишь на час, дабы переждать шторм, но поднялся на все семь витков узкой тёмной лестницы и остался в холодном доме на необозримую вечность.
Иногда я зову свой дом «Тощим Яшкой». По-русски. Он слышит, но делает вид, что не понимает. Но когда я пою русскую песню, я точно знаю: кивает Якоб своей шляпой, покачивает из стороны в сторону, и я чувствую, как вибрируют все перекрытия его больного старого тела со мною внутри. И тогда заброшенный, вычеркнутый из всех чиновничьих ведомостей, забытый маяк кажется мне кораблём, ступающим своей неспешной ковыляющей походкой через пенные волны.
…Кораблём, высадившим меня когда-то на этот пахнущий мхом и плесенью клочок чужой земли, номинально входящей в границы Великого княжества Финляндского и на бумагах числящейся землёй русской.
О русской земле я думаю, когда под завывания ветров и хруст раскалывающегося стеклянного кружева тонкой ледяной бахромы на перилах балкона-шляпы вдруг по-особому громко начинает стучать что-то внутри. Сердце? Тихо покачивается потемневший нательный серебряный крестик, привязанный бичевой к решётке окна-амбразуры на верхней площадке башни. Полоска света чертит на полу вытянутый прямоугольник. Ночью будет новая луна, ночью свет напишет на холодном камне бледно-лимонную долговязую руну, одинокую, как сам Тощий Якоб.
…И такую же одинокую, как я.
Больно глазам всматриваться в сизоватую даль за узким окном. Там, на юго-востоке, спит русский берег. До него немыслимо далеко, и иногда мне кажется, что его вовсе нет. Но колотится в груди от бесконечных искр, высекаемых солнцем, когда оно лениво встаёт с востока, со своего ночного ало-белого ложа, и до слепоты вглядываюсь я в маленькую светящуюся точку, в далекий от меня восток. И знаю в тот миг – Россия там, под розовым брюшком солнца, умытая и свежая, уже встретила новый день.
Я не могу покинуть маяк. Ни поехать, ни поплыть, ни побежать по льду к манящему родному берегу. Не отпустит меня Тощий Якоб.
Потому что я не человек. Был когда-то человеком, с теплыми ладонями и синей бьющейся жилкой на шее. Имя моё Яков Андреевич Асташков. Я – офицер Российского Морского ведомства, прошедший с Нахимовым до Синопа, испивший вино сладких побед и неоднократно видевший беззубый оскал смерти в славных сражениях. Дважды был тяжело ранен в Крымской войне, получил из рук самого императора крест Святого Георгия четвертой степени и за заслуги перед Отечеством был направлен на «более спокойную» службу: на парусный линейный корабль Балтийского флота «Лефорт».
Красавец-парусник, вмещавший до девятисот человек, в сражениях боле не участвовал, ходил по Балтике от Петербурга до Ревеля и был утешением для списанного по ранению боевого морского офицера. Смерть же кралась за мной, дышала в шею, наблюдала. И в сентябре 1856 года явилась за своим трофеем. На переходе в составе эскадры «Лефорт» попал в немилосердный шторм, опрокинулся и затонул в черной морской воде где-то между островами Гогланд и Большой Тютерс, унеся жизни всех, кто находился на борту. Восемьсот двадцать пять человек стали в одночасье рыбьим кормом. Восемьсот двадцать шестым был я.
Смерть с наслаждением играла мной, как мышонком, не забирая сразу, но давая глотнуть немного воздуха наполовину с солоноватой водой, и снова тянула за ноги в ледяную балтийскую глубь. Молитвы, которые я читал, лишь смешили её. Она меняла балахоны с белых на голубые и красные, отбрасывала капюшон и снова закутывалась в тряпьё, пряча костлявые пальцы в широкие рукава. Окаменевшими руками я пытался прогнать видение, и на самом исходе моего полузабытья явилась мне финская рыбачья лодка. Спасённый – нет, лишь оттянувший зловещий миг – я лежал на деревянном дне, смотрел на низкое тяжёлое небо без единой звезды, вслушивался в непонятную мне речь рыбаков, а Смерть баюкала шаткое судёнышко, качала ласково, словно люльку, и пела свою тягучую колыбельную. Я никогда не забуду лицо рыбака, соломенно-жёлтую бороду его, бирюзовые глаза, белый шрам от виска до обветренной губы. Не тебя ли убил я при обороне Севастополя, враг мой? Британец ли ты, француз или белый турок? Бред ли то или явь, померещилось? Такой же шрам видел я в перед собою в баталии, близко-близко, бирюзовые глаза горели яростью, чужая веснушчатая рука в ближнем бою занесла надо мной острый клинок. Но Смерть моя отвела ту руку. «Не время ещё».
И вот сейчас, уже совсем у берега, перевернула лодку одним движением сильной ладони, как монах захлопывает молитвослов – мгновенно и с глухим чётким звуком. «Время». Неведома мне судьба спасших меня мужчин, но знаю, не утешительна она. Когда стихло море, выбросило меня к молу, на котором высился Тощий Якоб, уже тогда оставленный смотрителями, списанный, подобно мне, из большой жизни, и показался он волшебной башней, ведущей в небо. Сутки или двое лежал я без сознания у двери в маяк, и только ветер свистел в его глазницах да побрякивал свисавшей у входа жестянкой с полустертым гербом Великого княжества Финляндского.
Смерть отперла все замки к маяку, погромыхала щеколдой, гостеприимно распахнула дверь и поманила. И невероятную силу вдруг ощутил я, поднялся с камней, выпрямился и шагнул в темное нутро Тощего Якоба, уверенно ступая по скользким каменным ступеням. Всё.
Лестница волшебной башни не привела меня к небу, но оторвала от земли навечно. Теперь я, Яков Александрович, и есть Тощий Якоб. Вечный смотритель. Во мне нет плоти, но есть душа – душа маяка. Я всё так же чувствую фантомные боли во всех частях моего исстрадавшегося тела, я могу плакать, и слёзы мои смешиваются с талой водой и сырыми струями, текущими по стенам моего последнего дома. Я, Тощий Якоб, смотрю сквозь серебряный крестик на море вдаль, на юго-восток, туда, где должен быть по всем мыслимым и немыслимым законам русский берег.
Судьба сыграла со мной ещё одну злую шутку: уже почти что век стоит маяк за пределом российской границы.
…Я лежу на сыром полу и считаю до трехсот тысяч…
Море наступает на берег. Вливается во фьорды, по дюйму, по аршину, по малой пяди заглатывает шхеры. Отступает ингерманладская земля, «подбирается». Значит, с противоположной стороны, с юга-востока, отвоёвывает у Лужской Губы клочки суши русская твердь. Несколько локтей в десятилетие. Через триста тысяч лет, которые я проживу в этих каменных стенах, Тощий Якоб доплывёт до России, спешащей ему навстречу. В небе, на глубине ли будем мы с ним в это время, мы дождёмся этого сладкого мига.
Последний корабль мой, моя истерзанная душа, мой Тощий Яшка! Веди меня сквозь замёрзшие морские гребни на восток, туда, откуда только что выкатился новый день! Один из миллиарда, которые нам с тобой предстоит прожить.
Вудкотский Лабиринт
К востоку от Лондона, если ехать в направлении Оксфорда, есть маленькая деревушка Вудкот, забытая богом настолько, что из развлечений там есть только общественные бани, бар с говорящим названием «Вудкотская Бутылка» да разве что…
– …Да разве что Лабиринт, – с зевком произнёс бармен «Бутылки», накапывая мне виски в бокал. – Чудак местный соорудил.
Бармен кивнул на джентльмена в мятой клетчатой шляпе, посасывающего свой скотч за столиком в углу. Я взял бокал и подсел к нему.
– Что, дружище, действительно твой Лабиринт стоит того, чтобы зависнуть в вашей дыре на часок?
Джентльмен промыл меня взглядом и протянул жёсткую пятерню:
– Я Джонни. Лабиринт три года строил. Кормилец мой! Пять фунтов платишь. Если находишь выход раньше, чем через полчаса, я тебе их возвращаю.
Мне вспомнился Лабиринт в Хэмптон-Корте, о котором писал ещё Д.К.Джером и который я одолел за какой-то рекордный срок, – мне даже музейная дама вручила за это бесплатный магнитик. Я подумал: пять фунтов – не весть какой капитал, а за полчаса я выход точно найду.
Мы с Джонни ударили по рукам, вышли из «Бутылки» и направились к Лабиринту.
Сооружение это представляло из себя частокол, туго сплетённый из ивняка и прошитый вдоль и поперёк зелёно-красным плющом. Лабиринт показался мне вполне компактным – я смерил взглядом стену и оценил его скромные габариты: за полчаса даже черепаха успеет найти выход, даже если решит ползти по всем его закоулкам.
С этими мыслями и стойкой уверенностью, что верну свои пять фунтов, я ступил на розоватый гравий дорожки. Джонни, саркастически улыбаясь, засёк время. Шёл я, не торопясь, насвистывая и то и дело натыкаясь на тупички. Ай да затейник, этот Джонни, думалось мне, не поленился ведь смастерить такую качественную штуковину, настоящий аттракцион. Через двадцать минут я начал немного нервничать. Вот же вот, я тут шёл – следы от моих ботинок на гравии петляли в разных направлениях. Скоро дорожек без моих отпечатков не осталось совсем, но заветная «арка с бантиком», как описал мне выход Джонни, всё не появлялась. И тут за одним из поворотов я услышал женский голос, назвавший меня по имени.
– Сюда, милый, сюда, я знаю, где выход.
Какой же хитрый лис этот Джонни, подумал я, встроил, паршивец, динамики в кусты, сам сидит дома, а жена его мурлыкает в микрофон. Здорово, ничего не скажешь!
Голос я, само собой, не послушал, не лох, пошёл в противоположном направлении, плутал ещё минут сорок, потом, уставший и обозлённый, нашёл арку-выход.
Меня встретил Джонни, счастливый и ликующий, как ребёнок, выигравший фантик. Я сказал, что мне надо выпить и попробовать снова. Джонни и не сомневался, лишь протянул пятерню и забрал у меня ещё пять фунтов.
Во второй раз я шёл быстро, не отвлекаясь ни на что и вспоминая, что, по классике, надо всегда поворачивать направо. Жаль, что сразу не догадался!
Я так и сделал. Когда полчаса почти истекли, меня снова позвал ласковый голос:
– Сюда, сюда! Я знаю выход!
Она звала меня в сторону, откуда я только что пришёл, и я мысленно показал ей кукиш. Уверенность, что арка покажется прямо сейчас, была крепка и незыблема, ведь в свою первую попытку я ободрал листочки у последнего перед выходом поворота. Вот же та самая лысая веточка! Но за поворотом оказался ещё поворот, ещё и ещё…
…Следующие пять фунтов я вручил Джонни уже наутро, потому что ехать в Оксфорд было поздно, и пришлось заночевать у старого атракционщика, заплатив ему ещё и за ночлег. Я думаю, на такие случаи он и содержал рядом с Лабиринтом мини-отель с незатейливым названием «У Джонни». К слову, отельчик был мил и чист, я оказался единственным его постояльцем, и завалился спать сразу, даже не поужинав. Однако же, успел подметить: ни одной персоны женского пола там не было, а постель мне стелил глухонемой мальчик, племянник Джонни. Засыпая, я подумал о том, что, вероятно, у Джонни была подружка или горничная, ведь кому-то он успел сообщить моё имя перед тем, как отправить меня в Лабиринтов зев. А в мистику я не верю.
Утром Лабиринт показался мне совсем игрушечным. Я хмыкнул и смело шагнул в его нутро. На этот раз я бежал трусцой, успевая помечать углы на поворотах прихваченной тайком от Джонни зубной пастой. Когда прошло двадцать минут, гадюка-Сирена снова позвала меня:
– Милый, сюда, выход здесь!
Я снова не поддался, показав ей жест покрепче вчерашнего кукиша, и уже не мысленно.
Голос стих. Время неумолимо приближалось к тридцати минутам. Я глянул вверх. Частокол показался мне не таким уж и высоким. Кто сказал, что я должен быть честным? Разве Джонни не жульничает со своими встроенными динамиками? Так что совесть моя чиста!
С этими мыслями я попытался залезть на частокол, но совершенно безрезультатно – лишь ободрал ладони в кровь.
Из Лабиринта мне удалось выбраться через час.
Пока Джонни клеил мне пластырь на раны, я прихлёбывал кофе и соображал: когда проклёвывается баба в динамике, арка точно где-то рядом (у меня уже накопилась своя «статистика» на этот счёт). Значит, тогда надо поднапрячься, ускориться и тыркаться во все закоулки вокруг. Я вручил Джонни его пять фунтов, зашнуровал кроссовки и поплёлся к Лабиринту.
На этот раз мне удалось найти выход через тридцать пять минут. Прогресс был налицо.
Меня одолела здоровая злость. Я забыл про свой Оксфорд и раз за разом уменьшал время выхода из Лабиринта, сведя его до тридцати одной минуты. Я уже не ходил, а носился по дорожкам, как если бы меня везде смазали скипидаром. Но никогда, никогда мне не удавалось выдержать условленные полчаса! Один раз я озверел и, услышав голос ставшей ненавистной мне бабы, разодрал частокол, желая найти динамик и разбить его вдребезги. Расцарапав себе не только ладони, но и лицо, и не обнаружив ничего, кроме верёвок, поддерживающих плющ, я, совершенно разбитый и опустошённый, вышел из Лабиринта под укоризненный взгляд Джонни.
Да, я готов был признать, что аттракцион слажен на славу. Одного не мог понять: зачем Джонни при гениальности инженерной мысли надо было ещё заморачиваться с радио? Ведь эту чёртову арку с бантиком и без того не найти за несчастные полчаса. Видимо, прошлые его клиенты были посноровистей, и старый плут для подстраховки решил и мистическую мульку приспособить. Чтобы уж наверняка.
Я не сдавался, пробуя снова и снова. Когда же почти вся моя наличность перекочевала в карман Джонни, я плюнул, распрощался с ним и поехал дальше по своим делам.
Где-то через год, снова оказавшись поблизости, я решил заехать в Вудкот и навестить Джонни. Нашёл я его в удручающем настроении, пьяненького и слезливого, на стареньком диване в холле отеля. Он мне обрадовался, угостил виски и посетовал, что Лабиринт по осени сгорел, осталась только арка с бантиком, которую он перетащил сюда и прибил на стену как память. По Лабиринту Джонни убивался, как по потерянному кормильцу.
Я с ненавистью взглянул на подсохшую арку, криво прибитую к потолочной балке, и обнял Джонни. Он был трогателен и несчастен. Мы помянули Лабиринт в полной тишине, как дорогого усопшего.
– Дружище, – сказал я, заглянув Джонни в глаза, – скажи, а кто-нибудь находил выход меньше, чем за полчаса.
Джонни хмыкнул:
– Нет. За тридцать одну минуту – пожалуйста. Но за тридцать – никто. Тайная закавыка одна была.
– Да не купился я на твою закавыку, а всё равно за полчаса не уложиться было! – в запале ответил я.
Джонни удивлённо взглянул на меня и продолжил:
– Ладно уж. Теперь-то чего. Теперь расскажу. На рельсах у меня несколько кустов стояли. Не выйти из Лабиринта было, пока я на нужную кнопочку не нажму. Вот и ты, хоть и шустрым был, а к арке подбирался, только когда я стенку двигал.
Ох, шельма! Вот в чём было дело! Мне даже смешно стало – как это я не догадался раньше! И ведь здорово придумано!
– А женский голос зачем тогда? – спросил я. – Для мистики? Или как отвлекающий манёвр: чтобы не слышно было, как рельсы двигаются?
– Какой голос? – прищурился Джонни.
– Динамики! У тебя ж там динамики в кустах были! На кой чёрт они там, если рельсы?
– Не было ничего! Клянусь! Что вы меня все обвиняете! – он почти перешёл на крик.
Я с трудом успокоил его. Ну и шут с ним, всё равно Лабиринтушка сгорел со всеми его радио-хитростями!
Мы посидели ещё немного, потом он проводил меня до машины, и я уехал. А на шоссе вдруг вспомнил, что не говорил Джонни своего имени. Он называл меня просто «русский». И паспорта моего он не видел – я жил у него в отеле без регистрации…
…И вот тогда я пожалел, что не поверил сладкоголосой лабиринтовой деве и не повернул, куда она меня звала…
Вечный вопрос
У дракона Ануфрия было три головы. Две обыкновенные – ноздри, брови, пупырышки, а третьей казалось, что она еврей. Откровение это пришло после чтения газет – сжечь бы их, да у Ануфрия лапы не доходили.
Долго вглядывалась третья голова в зеркало, и так посмотрит, и эдак. И вроде горбинку на носу уже обнаружила, и грустные глаза с чуть опущенными уголками, и лоб – умный такой, большой. Точно, ведь!
И началось! Кошерную еду ей подавай, цаце такой! Ануфрий, получается, на два стола готовит: привычную пищу первым двум головам, а третьей отдельно.
Комиксы листать перестала, глянец тоже. Засядет с постмодернистской заумью и вздыхает, выдувая пар из ноздрей.
В субботу еврейская голова вообще бунт устраивала – работать отказывалась. И даже думать. Наденет, бывало, ермолку на лысину, шею в воротник утопит, и дремлет, всхрапывая непонятными словами, на немецкие похожие.
Критиковать её стало невозможно. Ни матерком, ни интеллигентным лаем. Обижается. Оттявкивается в ответ, что притесняют, мол, её, бедную, а всё по национальному вопросу. Сбежать бы в Израиль, да только как туда всего Ануфрия-то затащить?
Две другие головы уж и покусывали еврейскую голову, и плевали в её уши, а всё без толку.
И вот однажды, когда она заснула, пошептались две головы и решили извести третью смрадным зельем. Не до смерти, нет, а так – чтоб спала всё время, перед глазами не маячила. Она ведь, когда спит, –тихая такая, лапушка, не скажешь, что дурная.
Задумали – сделали, подмешали утром зелье в кофий.
Только недооценили они третью голову. Видно, и впрямь поумнела за книжками-то. Она ведь, радость наша, ещё с вечера заговор тот подслушала. И на ус намотала. Сделала вид, что кофий пьёт, а сама потихоньку высморкала отравушку через левую ноздрю.
Ждали-ждали две вредные головы, когда третью сон сморит, не дождались, сами закемарили. А еврейская голова взяла маникюрные ножницы, похихикала, сплюнула да и сделала Ануфрию обрезание.
И споры на том прекратились. Ладно теперь живут. Таки да.
Светлана Волкова в Журальном зале >>>
Авторская страница в Facebook >>>